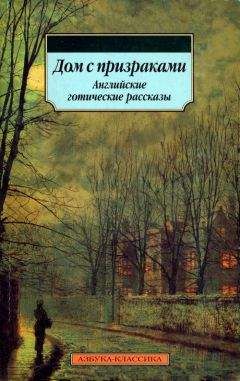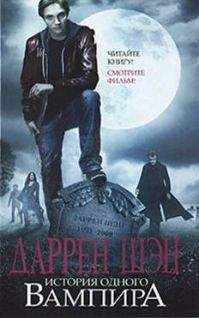Александр Чамеев - История с призраком
— Выходит, ты остановился во дворце? — Меня позабавил размах его воображаемой поездки.
— Конечно. Почему бы нет? Венеция, Фил, не то место, где я соглашусь остановиться в отеле. Венеция принадлежит прошлому, когда отелей не существовало, и я, чтобы быть en rapport[26] с окружением, поселился, как уже было сказано, во дворце. Он расположен, разумеется, не на центральных улицах, но все же это дворец, красивый дворец. А улица! Это живописный ручей, где резвятся мириады золотистых рыбок; при появлении гондолы они прыскают врассыпную, чтобы переждать в укрытии, пока нарушитель спокойствия не выйдет в Большой канал; после этого неспешно выплывают, чтобы вновь позолотить своей чешуей серебряную водную гладь.
— А не ударился ли ты в расточительность, Том? — спросил я. — Дворцы — недешевое удовольствие, так ведь?
— Нет-нет, — возразил он серьезно, словно в самом деле совершил поездку и теперь делился добытыми сведениями, — никакая это не расточительность. Учти, что в Венеции любой пригодный для обитания дом именуют дворцом, а также что не нужно платить чаевые слугам, поскольку их попросту нет; к твоим расходам на освещение, то есть на свечи, не добавляются прибыль хозяина, плата консьержке, горничной и прочие, по отдельности мелкие суммы; это из-за них гостиничный счет воспринимается как грабеж на большой дороге. Нет, в целом во дворце жить дешевле, чем в отеле, побочные расходы меньше и случаются не так часто; а кроме того, ты ни от кого не зависишь. Мне достался дворец из самых красивых.
У меня вроде бы есть картинка.
Порывшись в сумке, Брагдон вынул небольшую фотографию без рамки с венецианской уличной сценкой, указал на нарядное здание слева и уверил, что это его дворец, хотя название он забыл.
— Кстати, — сказал он, — замечу в скобках: по-моему, ради большего vraisemblance[27] наших заграничных путешествий стоило бы время от времени иллюстрировать их фотографиями. Как ты думаешь? На Двадцать третьей улице, у Бланка, их продают по четвертаку за штуку.
— Отличная мысль. — Меня позабавил основательный подход Брагдона к Венеции. — Так нам будет гораздо проще вспоминать то, чего мы не видели.
— Да, — кивнул Брагдон, — а кроме того, это удержит нас от преувеличений.
Он стал рассказывать дальше о месяце, проведенном в Венеции, как нанял на весь срок гондолу у красивого венецианского юноши, чье имя значилось на карточке (Том напечатал ее специально для этого случая):
ДЖУЗЕППЕ ДЗОККО
ГОНДОЛЫ КРУГЛОСУТОЧНО
На углу Большого канала и улицы Гарибальди
— Джузеппе — человек яркий, — продолжал Брагдон. — Наследник минувшей эпохи. Распевал как птичка, по вечерам привозил к моему дворцу своих друзей, причаливал лодку у столба перед дверью, и целый час они хором исполняли для меня нежные итальянские мелодии. Лучше, чем опера, а стоило мне всего лишь десять долларов за весь сезон.
— А что, Том, этот Джузеппе говорит по-английски? — осведомился я. — Или ты владеешь итальянским? Хотелось бы знать, как вы общались между собой.
— Думал, думал я над этой неувязкой, дорогой мой Фил, — отозвался Брагдон, — но ни к чему не пришел. Я спрашивал себя, что правдоподобней: чтобы Джузеппе говорил по-английски или я — по-итальянски? Последний вариант казался мне предпочтительней: легче представить себе американского торгового посредника, владеющего итальянским, чем итальянского гондольера, владеющего английским. С другой стороны, мы желаем, чтобы наши отчеты о путешествиях были правдоподобными, а тебе не хуже меня известно, что я не знаю ни слова по-итальянски, а насчет предполагаемого Дзокко{77} — кому ведомо, может, он болтает на английском как на своем родном? Честно говоря, Фил, я надеялся, что ты не задашь этот вопрос.
— Хорошо, беру его обратно. Речь идет о мысленном путешествии, так что мы вольны принять любое решение.
— Думаю, ты прав.
Продолжая рассказ, Брагдон поведал о великолепной росписи стен дворца; рассказал, как сам попробовал управлять гондолой и в результате искупался в «восхитительно теплых водах канала». Он приводил такие подробности, что хотелось ему верить.
Однако самой вершины реализма Брагдон достиг, когда, рассказывая о своем прибытии в Венецию, порылся в глубинах жилетного кармана, извлек на свет божий серебряную филигранную гондолу и подарил мне.
— Я приобрел ее на площади Святого Марка. Зашел в собор, осмотрел мозаичные полы, взобрался на Кампанилу,{79} покормил голубей и собирался вернуться к себе, но вспомнил о тебе, Фил, и о том, что ты готовишься к Риму, который у нас обоих впереди. «Дружище Фил! — подумал я. — Ему будет приятно узнать, что я о нем вспоминал», а потому я остановился у одной из колоритных лавочек на площади, где весь товар выставлен в витринах, и приобрел этот сувенир. Это пустяк, дружище, но держи на память.
Я взял фигурку и с чувством пожал Тому руку. Мимо прошел на якорную стоянку небольшой паровой буксир, наше суденышко закачалось на волнах, и на мгновение я почти поверил, что Том на самом деле побывал в Венеции. Я по-прежнему храню, как сокровище, эту филигранную фигурку, а посетив спустя несколько лет Венецию, я не нашел там ничего такого, на что согласился бы променять милый моему сердцу сувенир.
Как уже догадался читатель, Брагдон был прежде всего шутник, но слушая его шутки, искренние, зажигательные, не сочиненные заранее, хотелось временами сравнить их с истинной поэзией. Да, он был сама доброта, и, когда я осознал, что он меня опередил, что не будет больше путешествий, которым мы год за годом заранее радовались, как дети, из глаз у меня потекли слезы. Я был безутешен, и все же прошла неделя, и я от души посмеялся над Брагдоном.
Когда было зачитано завещание Тома, выяснилось, что он назначил меня распорядителем своего литературного наследия. Я просто покатился со смеху при мысли, что Брагдону требуется распорядитель литературного наследия; при всем его юморе и воображении он прочно ассоциировался у меня с бизнесом, но никак не с литературным творчеством. Мне даже казалось, что он чужд литературе. Едва совершив с ним две-три мысленные поездки, я обнаружил, что он более полагается на собственную фантазию, чем на сведения, почерпнутые из книг. Точно так же он был настроен и позднее, при уже описанном довольно подробно посещении Италии, когда мы вместе занимались Римом; позднее я смог оценить, до какой степени эти путешествия действительно были плодом его мыслей. Это был полный произвол: чего ему хотелось, то он и выдумывал, не считаясь ни с историей, ни с топографией. В противном случае разве стал бы он убеждать меня, что ему довелось побывать на том самом месте в Колизее, откуда Цезарь обращался к римской толпе, пламенно призывая ее воспротивиться Папе, посягающему на свободы граждан!{78}