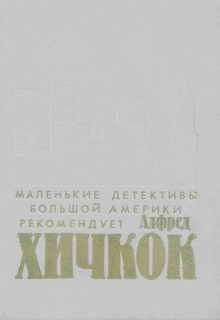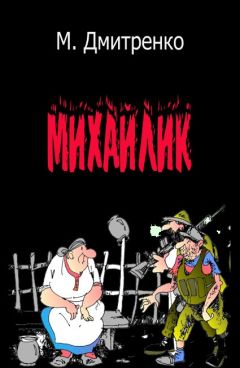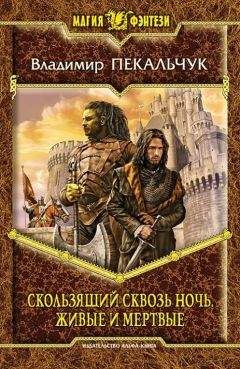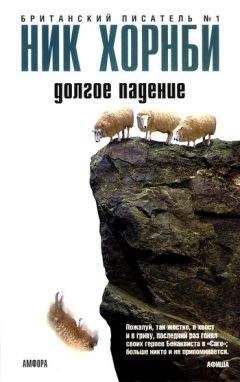Дэн Симмонс - Утеха падали
Но мы остались. Решили, что поедем к дяде Моше в июне, как всегда, а потом подумаем, возвращаться в город или нет. Как мы были наивны!
В марте 1940 гестапо выгнало нас из собственных домов и организовало в городе еврейское гетто. К моему дню рождения, к пятому апреля, гетто было полностью изолировано. Евреям строго запретили ездить куда бы то ни было.
Немцы снова создали совет — его называли юденрат, и на этот раз отца в него включили. Один из членов совета, Хаим Румковский, часто приходил в нашу квартиру — это была одна-единственная комната, в который мы спали ввосьмером, — и они с отцом сидели всю ночь, обсуждая разные вопросы управления гетто. Это невероятно, но порядок сохранялся, несмотря на скученность и голод. Я снова ходил в школу. Когда отец не заседал в Совете, он работал по шестнадцать часов в день в одной из больниц, которую они с Румковским буквально создали из ничего.
Так мы жили, точнее выживали, целый год. Я был для своего возраста очень мал ростом, но скоро научился искусству выживания в гетто, хотя для этого приходилось воровать, прятать продукты в укромные уголки и торговаться с немецкими солдатами, меняя вещи и сигареты на еду. Осенью сорок первого немцы стали свозить тысячи западных евреев в наше гетто. Некоторых привозили даже из Люксембурга. Многие из них были немецкими евреями; они смотрели на нас свысока. Я помню, как подрался с мальчишкой старше меня, евреем из Франкфурта. Он был гораздо выше меня — к тому времени мне исполнилось шестнадцать, но я легко мог сойти за тринадцатилетнего — и все равно я сшиб его с ног. Когда он попытался встать, я ударил его доской и разбил ему лоб. Он прибыл за неделю до того, в одном из этих пломбированных вагонов, и был все, еще очень слаб. Я уже не помню, из-за чего мы подрались.
В ту зиму моя сестра Стефа умерла от тифа, а с ней и тысячи других людей. Мы все очень радовались, что наступила весна, несмотря на известия о возобновлении немецкого наступления на Восточном фронте. Отец считал скорое падение России хорошим признаком. Он думал, что война закончится к августу и многие евреи будут переселены в русские города. «Возможно, нам придется стать фермерами и кормить их новый рейх, — говорил он. — Но быть фермером не так уж плохо».
Но в мае большинство немецких и иностранных евреев были вывезены на юг, в Освенцим. В Аушвиц. У нас мало кто слышал об Освенциме, пока туда не покатили поезда из нашего гетто. До той весны наше гетто использовалось как большой загон для скота. Теперь же четыре раза в день отсюда отправлялись поезда. В качестве члена юденрата отец был вынужден участвовать в сборе и отправке тысяч людей. Все делалось по порядку. Отцу это было ненавистно. Потом он по целым суткам не выходил из больницы, работал — будто искупал свою вину.
Наш черед настал в конце июня, примерно в то время, когда мы обычно отправлялись на ферму дяди Моше. Всем семерым было приказано явиться на станцию. Мама и мой младший брат Йозеф плакали. Но мы пошли. Мне кажется, что мой отец даже почувствовал облегчение.
Нас не послали в Аушвиц. Нас отправили на север, в Челмно — деревню километрах в семидесяти от Лодзи. У меня когда-то был товарищ, маленький провинциал по имени Мордухай, семья которого была родом из Челмно. Позже я узнал, что именно в Челмно немцы проводили свои первые эксперименты с газовыми камерами. Как раз в ту зиму, когда Стефа умерла от тифа.
Мы много слышали о перевозке людей в пломбированных вагонах, но наша поездка была совсем не похожа на это и даже, можно сказать, приятна. Мы добрались до места за несколько часов. Вагоны были набиты битком, но это были обычные пассажирские вагоны, а не товарняки. День — двадцать четвертое июня — стоял великолепный. Когда мы прибыли на станцию, ощущение было такое, будто мы снова едем на ферму к дяде Моше. Станция Челмно оказалась крохотной, просто небольшой сельский разъезд, окруженный густым зеленым лесом. Немецкие солдаты повели нас к ожидавшим грузовикам, но они вели себя спокойно и даже, казалось, были шутливо настроены. Никто нас не толкал и не кричал на нас, как в Лодзи — там мы к этому уже привыкли. Нас отвезли в большую усадьбу за несколько километров, где был устроен лагерь. Там нас зарегистрировали — я отчетливо помню ряды столов, за которыми сидели чиновники. Столы были расставлены на гравиевых дорожках, было жарко, пели птицы... А потом нас разделили на мужскую и женскую группы для помывки и дезинфекции. Мне хотелось побыстрее догнать остальных мужчин, и поэтому я так и не увидел, как маму и четырех моих сестер увели. Они исчезли — уже навсегда — за забором, окружавшим лагерь для женщин.
Нам велели раздеться и стать в очередь. Я очень стеснялся, потому что только прошлой зимой начал взрослеть. Не помню, боялся ли я чего-нибудь или нет. День был жаркий, после бани нас обещали накормить, а звуки леса и лагеря поблизости делали атмосферу дня праздничной, почти карнавальной. Впереди на поляне я увидел большой фургон с яркими картинками животных и деревьев на его стенках. Очередь уже двинулась в направлении поляны, когда появился эсэсовец, молодой лейтенант в очках с толстыми стеклами, с застенчивым лицом, и пошел вдоль очереди, отделяя больных, самых младших и стариков от тех, что покрепче. Подойдя ко мне, лейтенант замешкался. Я был все еще невысок для своего возраста, но в ту зиму я ел довольно сносно, а весной стал быстро расти. Он улыбнулся и махнул небольшим стеком, и меня отправили в короткую шеренгу здоровых мужчин. Отца тоже послали туда. Йозефу, которому минуло всего восемь, было велено оставаться с детьми и стариками. Он заплакал, и отец отказался оставить его. Я тоже вернулся в ту шеренгу и встал рядом с отцом и Йозефом. Молодой эсэсовец махнул охраннику. Отец приказал мне вернуться к остальным. Я отказался.
И тогда, единственный раз в жизни, отец толкнул меня и крикнул: «Иди!» Я упрямо замотал головой и остался в шеренге. Охранник, толстый сержант, пыхтя, приближался к нам. «Иди!» — повторил отец и ударил меня по щеке. Потрясенный, обиженный, я прошел, спотыкаясь, эти несколько шагов к той короткой шеренге, прежде чем подошел охранник. Я злился на отца и не мог понять, почему бы нам не войти в эту баню вместе. Он унизил меня перед другими мужчинами. Сквозь злые слезы я смотрел, как он удалялся, смотрел на его согнутую обнаженную спину; отец нес Йозефа; брат перестал плакать и все оглядывался назад. Отец тоже обернулся, взглянул на меня, всего один раз, прежде чем исчезнуть из виду вместе с остальной шеренгой детей и стариков.
Примерно пятую часть мужчин, прибывших в тот день, не дезинфицировали. Нас повели строем прямо в барак и выдали грубую тюремную одежду.