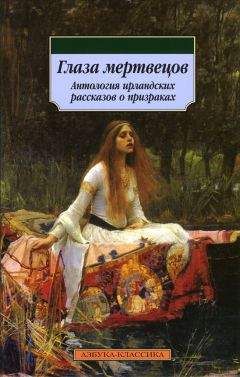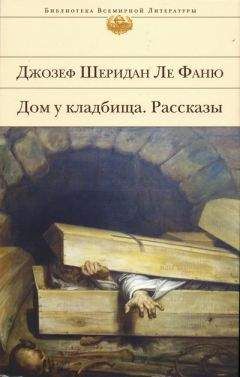Джозеф Ле Фаню - Любовник-Фантом (сборник)
Глава III
Мы обмениваемся воспоминаниями
Мы проводили глазами кортеж, быстро скрывшийся из виду в отуманенном лесу; тихий ночной воздух поглотил стук копыт и скрежет колес.
Можно было бы подумать, что все это нам пригрезилось, если бы не девушка на траве, которая в этот миг открыла глаза. Лица ее я не видела, она лежала спиною ко мне, но потом подняла голову, должно быть, озираясь, и я услышала, как нежный голос жалобно спросил:
— А где мама?
Отозвалась наша добрая мадам Перродон: она объясняла и утешала. А та будто и не слышала, спросивши в ответ:
— Где же я? Что это за место? — и потом: — Карета, где карета? И где матушка?
Мадам Перродон терпеливо отвечала на ее вопросы, и девушка наконец вспомнила, как опрокинулась карета; она была рада, что все каким-то чудом обошлось благополучно, однако узнав, что мама оставила ее здесь на три месяца, горько заплакала.
Я готова была стать утешительницей вослед мадам Перродон, но мадемуазель де Лафонтен тронула меня за плечо.
— Не надо, — тихо сказала она, — два собеседника — это для нее сейчас слишком много. И всякое волнение ей вредно.
И верно, подумала я, вот уложат ее в постель, тогда сбегаю, посмотрю на нее.
Между тем отец послал за доктором, который жил в десяти милях от нас, и велел поскорее приготовить спальню.
Незнакомка поднялась и опираясь на руку мадам, медленно вошла по подъемному мосту в ворота онмка. Служанки встретили ее на крыльце и повели наверх.
Обычно гостиной служила нам длинная зала с четырьмя окнами, глядевшими на ров и подъемный мост, на ту лесную прогалину, о которой я говорила.
Зала была обставлена старинной дубовой мебелью: огромные резные шкафы, кресла, обитые темно-красным утрехтским бархатом. По стенам гобелены в золоченых рамах — сцены псовой и соколиной охоты, празднества: фигуры в человеческий рост, забытые одежды былых времен. Это великолепие, однако же, нас вовсе не стесняло и ничуть не мешало нашим чаепитиям: ибо отец мой, всегдашний и упорный патриот, требовал, чтобы английский национальный напиток соседствовал на столе с кофе и шоколадом.
Мы сидели в озаренье свеч и обсуждали вечернее происшествие. За столом были и мадам Перродон, и мадемуазель де Лафонтен; юную незнакомку уложили в постель, и та сразу же уснула глубоким сном. При ней оставили служанку.
— Как вам нравится наша гостья? — спросила я мадам Перродон, едва та вошла. — Расскажите мне о ней!
— Она мне очень нравится, — отвечала мадам, — хороша неописуемо; примерно ваших лет и такая милая, такая ласковая.
— Поистине спящая красавица, — подтвердила мадемуазель, которая успела одним глазком заглянуть в запретный покой.
— И какой нежный голос! — добавила мадам Перродон.
— А вы заметили женщину в карете, когда ее поставили на колеса: она и не выходила, только смотрела из окошка? — спросила мадемуазель.
Нет, мы ее не заметили.
Там, оказывается, сидела жуткая черная старуха в цветном тюрбане; она выглядывала в окошко, кивала, ухмылялась и злобно таращилась; глаза ее сверкали, а зубы были оскалены, точно в бешенстве.
— А заметили, каковы слуги? — спросила мадам.
— Да, — сказал отец, входя, — ни дать ни взять шайка висельников. Спасибо еще, если они не ограбят свою госпожу где-нибудь посреди леса. Но молодцы сноровистые, нечего сказать: как они мигом выправили карету!
— Да они устали, наверно, измучились в долгом пути, — заметила мадам. — У них, пожалуй что, вовсе и не злодейские, а просто очень исхудалые, сумрачные и хмурые лица. Но, признаться, меня-таки разбирает любопытство. Ну, ничего — милая наша гостья завтра сама все расскажет, лишь бы пришла в себя.
— Вряд ли она вам что-нибудь расскажет, — проронил мой отец с загадочной улыбкой и слегка кивнув, будто ему было известно побольше нашего.
Я решила непременно допытаться, о чем же они говорили с дамой в черном бархате перед самым ее отъездом, и едва мы остались одни, принялась расспрашивать его. Он отмалчиваться не стал.
— Да уж ладно, скажу. Она огорчилась, что покидает дочь и обременяет нас заботами о ней; у дочери, прибавила она, хрупкое здоровье и нервы расшатаны, однако припадков у нее не бывает, галлюцинациям не подвержена — словом, вполне нормальна.
— Странно, честное слово! — вмешалась я. — Зачем было это говорить?
— Это ты у нее спроси, — рассмеялся отец. — И коли ты такая любопытная, дослушай, немного осталось. Она сказала: «Жизнь и смерть — слово „смерть“ она подчеркнула — зависят от моей поездки, дальней, спешной и, главное, тайной. Я вернусь за дочерью через три месяца, и пока не вернусь, она ни словом не обмолвится о том, кто мы такие, куда и зачем едем». Вот тебе и все. Видно, это для нее очень важно: видела же, как быстро она умчалась! Боюсь, не сглупил ли я, принявши в дом ее дочь?
Я-то была в восторге. Я думала — ах, скорее бы с ней повидаться и поговорить! Приедет доктор — он, может статься, позволит. Вы живете в городе, вам и невдомек, что за счастье в нашей глуши новая, нежданная подруга!
Доктор приехал около часу ночи, но я не думала спать, какое там! Я так же не могла уснуть, как не смогла бы догнать карету, которая умчала герцогиню в черном бархатном платье.
Доктор спустился в гостиную с добрыми вестями. Она уже не лежала, а сидела, пульс выровнялся, чувствует себя хорошо. Ничуть не ушиблась, а легкий нервический шок прошел бесследно. Так что увидеться нам было позволено, если она согласна, — и я послала служанку узнать, нельзя ли наведаться к ней хоть на несколько минут.
Служанка тотчас вернулась и передала, что она только об этом и мечтает. Мечтать ей пришлось недолго, будьте уверены.
Гостью нашу поместили в одном из лучших покоев замка — пожалуй, чересчур пышном. За изножием кровати висел сумрачный гобелен — Клеопатра с аспидом у груди; другие стены также являли взору строгие и блеклые античные изображения. Впрочем, и мебель в золоченой резьбе, и пышное, затейливое, многоцветное убранство покоя скрашивали угрюмый вид старинных гобеленов.
Возле постели горели свечи. Она сидела, откинувшись на подушки, стройная и прелестная, в расшитом цветами шелковом стеганом капоте, которым ее мать укрыла ей ноги, когда она лежала без чувств.
Но едва я подошла к ней и вымолвила первое слово, которое было у меня на устах, как вдруг онемела и невольно отпрянула. Почему? Сейчас скажу.
Я увидела то самое лицо, которое возникло передо мною ночью в раннем детстве; я запомнила его до ужаса отчетливо и все эти годы с ужасом вспоминала, втайне от всех. Красивое, даже очаровательное лицо; и такое же печальное, как было тогда. Внезапно его озарила странная, тихая улыбка узнавания.