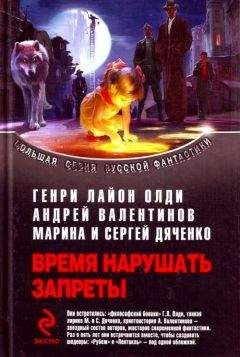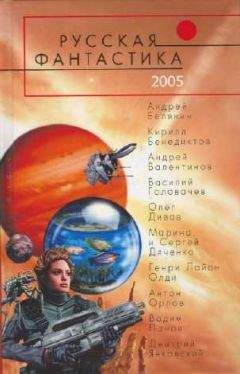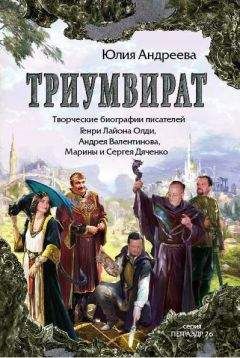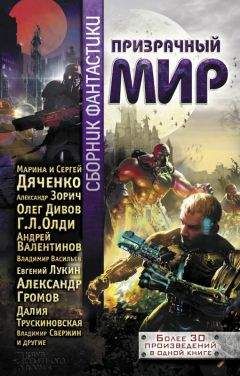Марина Дяченко - Пентакль
Отец перекрестился:
– Давайте, хлопцы… Днем не успеем – ночью справимся. Давайте, с Богом…
И взвились, тускло блеснув, зашипели в движении косы.
* * *Зайти к деду через день-другой, как собирался, у Омельки не получилось. Небо стояло по-прежнему пасмурное, готовое пролиться дождем, солнце выглядывало мельком. Жали ночью и днем, а сжав все до колоска, принялись возить снопы.
Сноповоз Омелько любил. На поле едешь, подскакивая в пустой телеге, как мячик, бьешься тощим задом о «рубли», которыми потом придавят снопы на возу; зато возвращаешься, как король, – высоко, мягко, покачивает, будто на облаке плывешь… Отец вел Вороного, а Павло Рыжую, и оба вели так умело, что ни один воз ни разу не перевернулся. А такое случается – бывало, приходилось останавливаться и помогать какому-нибудь недотепе поднимать на колеса завалившийся воз…
Сверху, со снопов, Омелько увидел немца.
Отец и Павло быстренько отвели возы с дороги. Павло чуть не повис на поводу у Рыжей – она ведь и от куста шарахается, а тут вправду есть чего пугаться. Едет по дороге коляска с откидным верхом, в коляске – немец в клетчатом кашкете, надвинутом низко на лоб. На козлах – усатый сторож, весь в черном. У Омельки сердце ушло в пятки.
Коляска поравнялась с возом. Омелько близко-близко увидел клетчатый кашкет, куцый сюртук, рыжие усы и бачки, льдистые голубые глаза. Немец равнодушно скользнул по хлопчику взглядом.
Павло успокаивал Рыжую и вполголоса бранился. Отец молча выводил Вороного опять на дорогу, а Омелько, приподнявшись на снопах, смотрел коляске вслед. И простая мысль, прежде заслоненная страхом, взошла в нем, как солнышко: а ведь баштан-то без охраны оставили!
* * *Поздно вечером, когда уставшие за день труженики уснули как убитые, Омелько выбрался из коморы.
Впервые за много дней тучи разошлись, и это показалось ему хорошим знаком. Луны не было; небо усыпали звезды, тянулся Чумацкий шлях, всеми цветами переливался Волосожар. Омелько затрусил по дороге, стараясь, чтобы соседские собаки не услышали. В селе лай перекидывается от хаты к хате, как пожар, а Омельке не хотелось, чтобы кто-нибудь знал про его авантюру.
Он крался, удивляясь собственной смелости. Немец со сторожем поехали в город, а больше на баштане – он знал – никого нет. Может, поехали договариваться насчет базара; может, через день-другой уже не будет никаких арбузов, пустые грядки останутся. И съест какой-нибудь паненок в Киеве сладкий ломоть, истекающий соком, а он, Омелько, будет проклинать себя за трусость и нерешительность…
Над горизонтом, над кромкой леса, показалась большая желтая луна.
Следовало спешить.
Ночь выдалась теплая, но Омелько дрожал, добравшись наконец до баштана. Ветер улегся. Было так тихо, что Омельке мерещилось слабое гудение внутри собственных ушей. Он поглубже натянул картуз с треснувшим козырьком. Постоял еще. Прислушался. Нашел в плетне щель, достаточно широкую, чтобы протиснуться. Был он верток и худ, правда, боялся порвать сорочку. Обошлось; через секунду хлопец уже стоял на баштане, на четвереньках, обомлевший от страха и счастья.
Быстро перекрестился, огляделся, нет ли где чертей. Тихо. Темно. В отдалении едва-едва белеет сторожка. Поплевал на всякий случай через левое плечо, а потом и через правое. Трижды прочитал «Отче наш». Лег на пузо…
И пополз, извиваясь вьюном.
Луна поднялась выше. Скоро она все тут зальет светом. Надо хватать первый попавшийся арбуз и давать деру. Но арбузов поначалу не попадалось – только ботва, пышные заросли. Омелько уж испугался, что предусмотрительный немец, перед тем как ехать в город, велел все собрать и запереть в коморе…
А потом он натолкнулся на арбуз лбом – так, что шишка выскочила.
Не удержавшись, поднялся на четвереньки. Каким-то чудом его занесло на самую середину баштана. Вокруг на грядках лежали, тяжело вдавившись в грунт, круглые, темные…
Омелько часто задышал. Луна светила вполсилы, он не мог как следует рассмотреть поле вокруг; огляделся, нет ли опасности, ничего не заметил – и вытянул шею, поднявшись чуть ли не в полный рост…
Не поверил глазам. Принялся тереть их, растер до слез.
Глянул еще раз – и врос в землю, не в силах ни крикнуть, ни сделать шага.
Головы лежали на грядках, отрезанные человеческие головы. Все глаза были закрыты – кроме выбитых, выколотых, вытекших глаз; желтоватая дряблая кожа и темная, как старое дерево, кожа. Черные чубы и седые чубы. Расшитые золотом шапки. Турецкие малахаи. Головы в бородах, и головы, бритые налысо, и совсем черные, как уголь, головы. Здесь были казаки, турки, ляхи, паны и селяне, старые и молодые; так случилось, что Омелько в одну долгую секунду смертельного испуга успел увидеть их десятки – тех, что росли поближе. А поле тянулось и тянулось во все стороны, и там, в отдалении, тоже маячили головы, головы, головы…
Заверещав, будто его режут, Омелько пустился бежать. Споткнулся о голову и упал. Прямо перед ним оказалось старое, изрезанное морщинами, желтовато-коричневое лицо. Блеснула золотая серьга в огромном ухе. Длинный чуб-оселедец лежал на земле, как стебель растения, прибитый дождем. Мгновение – закрытые веки дрогнули, старый запорожец открыл глаза, поводил зрачками, и взгляд его остановился на Омельке.
* * *Он не помнил, как выбрался на дорогу. Сорочка изорвана, штаны – грязные и мокрые насквозь. Поскуливая от ужаса, Омелько добрался до Студны и залез в реку с головой – прохладная чистая вода помогла собрать остатки сил и не расстаться с рассудком.
Он бормотал все молитвы, какие знал. Выстирал одежду; луна к тому времени поднялась высоко, и приходилось прятаться в тени кустов – чтобы кто-нибудь, идущий ночью по хозяйственной надобности, не заметил на берегу скрюченного голого мальчишку. Наконец кое-как успокоился и сказал себе, что все позади. Отделался, почитай, легко. Хлопцам, конечно, ни слова не скажет – упаси Боже, рассказывая, заново пережить такой ужас…
Да и не поверят хлопцы. Будут смеяться, как над Леськом.
Ночь стояла глухая, будто тетерев. Становилось прохладно. Омелько выкрутил одежду, натянул на себя и решил добираться до дома бегом – на бегу и согреешься, и рубаха со штанами высохнут…
Только он так подумал, как новая мысль пригвоздила его к месту. Эта мысль была страшнее многого, что он повидал сегодня ночью.
Картуз!
Картуз с треснувшим козырьком остался на баштане!
Когда Омелько, не помня себя, кинулся бежать – картуз слетел от ветра и остался лежать среди отрезанных голов. Значит, завтра утром панский сторож, обходя грядки, непременно его обнаружит…
А может, сам немец наступит надраенным до блеска сапогом. Поморщившись, нагнется, возьмет двумя пальцами, поднесет к глазам…