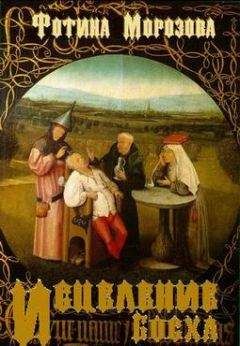Фотина Морозова - В каждой избушке свои...
Шушка вился вокруг ног, как собачка, нюхом впитывая, что происходит что-то неладное. Мама изменилась. Это плохо. Мамы не должны меняться. Обычно детей пугает нарядный — в вечернем платье, разящий духами — мамин облик; Шушку смутил облик затрапезный, в котором он Соню никогда не наблюдал.
— Мам, а ты гулять?
— Гулять, медвеженький, гулять.
— А я — гулять?
— А ты будешь мультики смотреть. Бабушка Поля поставит тебе на кассете мультики. Или рекламу…
Пристрастие сына к рекламе с её навязчивым аляповатым мельканием обычно Соню смешило, сейчас — раздражало. У неё могли быть другие, лучшие дети. Не от Ильи…
— А мы с Мишенькой попросим маму, чтоб недолго гуляла, — с наисладчайшей улыбкой не попросила, а потребовала Полинара. На страже интересов хозяина, как всегда! Соня перекусила у самых губ готовое вырваться ругательство.
— Я постараюсь побыстрее, — нагло соврала Соня.
Койотское пальто и клетчатый платок снабдили Соню достаточной дозой отвращения к себе, чтобы бесстрастно перенести тычки пассажиров, впаковавших её в вагон электрички. За две станции до Заплатина вагон очистился, и Соня, ненадолго примостясь на крайней скамейке для инвалидов и престарелых, понаблюдала закатное солнце, размазанное полосой над избами, в одной из которых, вероятно, родился её муж. А дальше — электричка почему-то перемахнула Заплатино без остановки. Вскочив, Соня бестолково заметалась по вагону. Дёрнуть стоп-кран? Но поезд как раз проходил откос, под которым в морозной белизне пугающе далеко чернела речка — не толще пиявки. Если поезд затормозит и откроет двери — как она отсюда спустится? Куда?
В то же самое солнце, только круглое и красное, упиралась деревенская улица, когда Соня сошла со станционной платформы — сошла на далёкой, совсем не нужной ей остановке, убедившись, что электричка в обратную сторону пойдёт только через полтора часа. Пуста была неведомая деревня, ни одной живой души, хотя бы собачьей или кошачьей, не копошилось за сквозящими штакетинами. Мороз и закат навели комендантский час. У Сони тоже начинали замерзать ноги. Вместе с пощипывающей болью в ногах, пришло разочарование. Она — всего лишь избалованная жена «нового русского», которая с какой-то блажи потащилась выведывать то, что ей совершенно не нужно знать. Разве она не благодарна Илье? Хотя бы за то должна быть благодарна, что Илья избавил её от необходимости носить плащ-палатку, обшитую мехом оплешивевшего койота, и ступать мёрзнущими ногами по безжалостному российскому снегу. Надо немедленно позвонить Илье, попросить, чтобы он её отсюда вызволил! Под убогим пальто скрывается на цепочке предмет недешёвый — сотовый телефон. Соня нашарила его — и опомнилась. Если она позвонит Илье на работу, он её и слушать не станет. Ещё хуже рассвирепеет. Раз уж она выбралась за город в такую погоду, надо довести дело до конца. На сегодня карты предсказали ей удачу. Предопределение сработает! Надо только его слушаться, а уж оно облагодетельствует сюрпризами. Надо найти кого-нибудь из местных жителей и спросить, как добраться до Заплатина без электрички. Может, на автобусе. А может, кто-то подкинет на своей машине — у Сони в кошельке достаточно мелких денег.
Проезжую часть отгораживали от дороги снежные валы, пересечённые едва заметными муравьиными тропками. Проваливаясь по колено, плывя сквозь снег, Соня не сразу смогла ухватиться рукой в обсыпанной инеем варежке за штакетину забора, сквозь который просматривался двухэтажный бревенчатый дом. В доме кто-то был. Там светилась оранжевая лампа, создавая вокруг себя пространство — мягкое, круглое и коричневое. Людей в этом пространстве не замечалось, но лампы, как правило, не горят сами по себе.
— Извините, пожалуйста! — крикнула Соня. Крик получился неубедительным. — Эй, хозяева! — предложила она невидимым владельцам дома более деревенскую формулировку. Хозяева не проявили признаков жизни. Им там уютно, вблизи оранжевой лампы, возле бока потрескивающей дровами печи… А Соню мороз кусал за ноги, как бультерьер. Пальцы в варежках застыли в обмороке. Не дожидаясь, пока они совсем скончаются, Соня непослушными руками слепила снежок и бросила в окно. Стекло зазвенело, а Соня вскрикнула — так стремительно в ответ на звон прильнуло к той стороне окна чёрное, против света, лицо. Прильнуло — и отшатнулось. Приглушённый звон, дребезг. Через полминуты на заснеженное закатное крыльцо выпульнулось явление: грубовязаная кофта, из-под шерстяной юбки — тренировочные брюки с лампасами. Поверх всего — внахлёст — телогрейка. Растрёпанные волосы по цвету сливаются со снегом. Лицо — не понять, что в его морщинах: гнев или испуг?
— Баба Маруся! Ой, баба Маруся! — Грубые изработанные пальцы, сложась троеперстно, часто-часто кладут крестное знамение. — Чего тебе надо? Не тронь меня!
— Я не баба Маруся! — Ну вот, подумала Соня, в этом пальто меня приняли за старуху. Этого следовало ожидать…
Хозяйка припала к калитке с той стороны. Глаза бдительные, испуганные, светлые. Простейшие глаза, наивные. Такие не солгут, даже если захотят.
— И правдать, не баба Маруся… А кто, родственница ихняя?
— Нет…
— Болтай! Ты ж в родню свою удалась. Акинфиева?
— У меня мама — Акинфиева. Девичья фамилия…
— Что, Людкой зовут?
— Людмила Алексеевна.
Трудно, от обсевшего снега, подвинулся калиточный засов.
— Это ты, значит, бабы Маруси двоюродная правнучка. Вали в дом, если за тобой больше никого нет.
«Сука!»
Это ёмкое словечко, оскорбительное для женской сущности, показалось Илье посторонним, не способным затронуть его жену, которую он почти сутки, начиная со вчерашнего вечера, ругал по-всячески. Нет, она не сука… Она — соня. Садовая соня, зверёк-вегетарианец, похожий на мышь, но с длинным пушистым хвостом. Раньше то, что имя жены совпадает с названием очаровательной тварюшки, умиляло Илью, теперь он представлял, как стискивает в кулаке эту мышь с длинным хвостом, которая пищит, обгаживается и, финально, испускает дух при хрусте шейных позвонков. Соня — садовый вредитель. А его Соня — вредитель всей его жизни. Его бизнеса. Зачем она так? Это ведь Илья всё для неё, для сына! А она, глупая и упорная, лезет в святая святых, доискивается того, что невозможно выставлять на всеобщее обозрение… Есть слова, которые нельзя выставлять на всеобщее обозрение. Ритуал, сказала она. Да, ритуал. Но при чём здесь психиатрия?
Дед Ильи был колдуном. Тот самый дед, который принял роды у городской невестки, когда городской сын привёз её на погляденье. И в детстве Илью часто отправляли на лето в деревенский дедов дом. Там даже в знойные июльские недели застаивалась тихая прохлада; печально и успокоительно пахло мятой и другими травами, особенными, названия и сроки сборов которых знал один дед. Дед много чего знал… Ради этого к нему люди из четырёх деревень наведывались — одной родной и трёх окрестных. С подношениями — простыми: мёд, сало, шерсть… Чаще — бабы, но попадались и мужики. Мужчины по большей части просили хозяйства справного — и чтобы председатель колхоза не больно-то наседал. А вот женщины… Просьбы женщин были сложнее, выкладывали они их деду строго наедине. Да и мал тогда был Илюша, чтобы просьбами бабьими любопытничать. Дед умер, когда ему исполнилось десять лет…