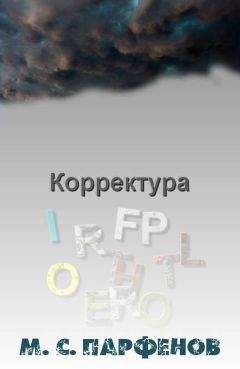"Самая страшная книга-4". Компиляция. Книги 1-16 (СИ) - Парфенов Михаил Юрьевич
Но папа не вылез. Не бить ему больше маму.
Бабушка потянула Катю за руку, и та покорно засеменила за ней.
Галя долго еще стояла возле могилы, глядя на вьющийся в холодном воздухе дымок сигареты. Вспомнились слова: «Яко тает дым, да исчезнут…» Отрывок из молитвы. Где она ее слышала? Должно быть, в кино.
Яко тает дым, да исчезнет Марк Рощин, отец и муж, с лица земли.
Засунув руки в карманы, она прошлась вдоль могилы, поддевая ногами комья грязи.
– Вот ты и подох, – сказала она. Ей хотелось, чтобы он мог ее слышать, чтобы каждое слово разило его, будто раскаленный клинок. – Мне все равно, что ты сделал. Плевать, что ты жизнь мою искалечил. Но Катеньку я тебе не прощу. Она же твоя дочь, скотина. Взорвать бы твою могилу ко всем чертям!
Щелчком пальцев она отправила окурок прямо в центр земляной кляксы.
– Э, гражданочка! – гаркнул невесть откуда взявшийся мужичок. – Христа ради, не сорите! Разгребай тут потом за вами…
Взмахнув крыльями, с дерева снялась спугнутая ворона и, каркая точно в насмешку, закружилась в белесом мареве неба.
В комнате у бабушки обстановка была ей под стать – изящная и в то же время сурово очерченная: и кровать у левой стены, и книжный шкаф с застекленными полками у правой, и часы с маятником в углу, отрывисто чеканившие мгновения: так… так… так… – а высокое кресло у окна и вовсе походило на королевский трон. Да и сама бабушка, восседавшая в нем, положа руки на подлокотники, напоминала Кате вдовствующую королеву – или, может, старую графиню из оперы «Пиковая дама», которую они с мамой однажды смотрели по телевизору.
Под мерный стук часов бабушка рассказывала истории. Страшные, злые истории.
«Женщина тут неподалеку жила, и был у нее мальчонка, Степушка, – такой сорванец, сладу с ним не было. Вот раз месит она тесто, а он под ногами крутится. Осерчала она, да как крикнет: „Иди ты к черту!“ Он вдруг как-то сразу притих, повернулся и молча вышел. Ну, мать дальше занялась тестом. Под вечер хватилась – нету Степушки! Уж она звала-звала… Стала бегать по соседям, и один мальчишка сказал ей, что видел, как Степушка брел к полю, а там его ждал уже какой-то господин в черном костюме и с кривыми ногами; и будто взял он Степушку за руку и повел в сторону леса. С тех пор никто Степушку больше не видел, а мать его с горя через две недели в сарае удавилась…»
И еще много чего рассказывала она; о том, что земля, на которой стоит город, проклята, что в школе всё врут и деревню Никитино, на месте которой он был построен, опустошили в восемнадцатом веке вовсе не казаки, посланные подавить крестьянское восстание, а самые настоящие вурдалаки; о том, что надо избегать пылевых столбов на дороге, ибо в них кружат бесы; о том, что многие женщины в их роду знались с нечистой силой… От ее историй Кате часто снились кошмары, но она все равно тянулась к бабушке, как тянутся к сильным слабые.
Когда наскучивало сидеть у бабушки, шла в папину комнату.
Здесь все оставалось нетронутым, словно он никогда и не покидал родного дома. Аккуратно застеленная кровать, книжный шкаф с потрепанными томиками Жюля Верна, Марка Твена, Ефремова и Стругацких, письменный стол. В сундуке в углу пылилась груда старых игрушек, из которой выглядывала облезлая шахматная доска. На стене возле выцветшего плаката с Высоцким висела пара боксерских перчаток, а на тумбочке стояли допотопный патефон и стопка пластинок. Такая комната могла принадлежать только хорошему человеку.
Катя долго считала папу хорошим человеком. Даже когда он впервые ударил маму. Катя не понимала, почему мама так разозлилась тогда и несколько дней с ним не разговаривала. Будто она сама не может влепить дочке плюху за непослушание!
А у хорошего человека всегда хватает друзей, и в доме часто собирались веселые и шумные компании. Тихоню маму это совсем не радовало, особенно когда приходил папин друг детства Алексей Дубовик.
Его почти никто не называл по имени: наверное, уж очень внушительно звучала фамилия. Папа, однако, предпочитал называть его детским прозвищем Табаки – сам он в детстве, конечно же, был Шерханом. Катя считала, что папа ни капельки не похож на злобного хромого тигра (ну, только когда сердитый), да и Дубовик совсем не походит на шакала. Скорее на привидение – высокий, худощавый, слегка сутулящийся, с белесыми волосами и прозрачными глазами, да к тому же всегда возникающий неожиданно и некстати. Быть может, именно эта его пронырливость помогла ему устроиться следователем в прокуратуру. Когда папа называл его Табаки, Дубовик кривил толстые губы в усмешке, но в глазах его вспыхивал недобрый огонек. А иногда он бросал странные взгляды на маму – всегда украдкой, будто опасаясь, что друг заметит, и тогда мама ежилась, словно ей зябко.
И все-таки Дубовик с папой были не разлей вода – и в школе, и в армии, и в Афганистане. За столом они частенько травили афганские байки и скандировали свой армейский девиз: «Чтоб свалить Дубовика, придется вырубить Рощина!» Дружно ругали какого-то минерального секретаря, по милости которого стало невозможно достать нормальную выпивку. Горячо обсуждали перестройку.
Перестройкой дышало все. Каким-то странным волнением были охвачены все вокруг, предчувствием новой жизни, заманчивой и пугающей одновременно, а в телевизоре молодой человек с грустными раскосыми глазами пел, требуя перемен, и тысячи тысяч вторили ему.
И перемены настали, но едва ли о таких мечтал наивный молодой человек в телевизоре. Полки магазинов пустели, повсюду начали закрываться заводы. Папа, как и очень многие, лишился работы. Зато мама смогла устроиться нянечкой в детском отделении больницы. Платили не ахти, иногда приходилось дежурить в ночную смену, но папа не зарабатывал вовсе, и ощущение собственной никчемности доводило его до белого каления. И он запил горькую, благо грозный минеральный секретарь как раз ушел в отставку.
Папа редко теперь называл маму Галчонком. Слова «сука» и «овца» звучали гораздо чаще.
Хороший человек становился плохим человеком, и постепенно от него отвернулись все друзья… кроме Дубовика.
Он навещал их постоянно. Непременно с че- кушкой. За такое подношение папа готов был вытерпеть очень многое. А Дубовик теперь не просто глазел на маму – он заигрывал с ней в открытую, отпуская шуточки до того скользкие, что даже смысл их ускользал, оставляя только ощущение чего-то гнусного. Катя пересказала одну своей лучшей подруге Ленке Карповой, которая слыла докой во взрослых вещах.
Ленка долго смеялась, а потом сказала:
– Если твой папа настоящий мужчина, он просто обязан спустить этого Дубовика с лестницы.
Очевидно, папа был ненастоящий мужчина. Поднять руку на своего заступника он не осмеливался. С лестницы Дубовик благополучно спускался сам, и, как только он уходил, папа набрасывался с кулаками на маму. Его забирала милиция, но следователь Дубовик всегда готов был выручить старого друга. При условии, что тот и дальше будет ненастоящим мужчиной.
Катя догадывалась, что следователь поступает так неспроста. В его действиях определенно прослеживалась некая цель. А вот папа этого не понимал или не хотел понимать. Теперь он сам стал Табаки-шакалом, дрожащим под боком у грозного покровителя, и, должно быть, только поднимая руку на маму мог ненадолго снова почувствовать себя Шерханом.
Однажды, когда мама была на ночном дежурстве, он ни с того ни с сего набросился на Катю. Выдернув из постели, он начал гонять ее солдатским ремнем.
В одних лишь маечке и трусиках, обезумев от боли, стыда и страха, она металась по комнате, но длинная змея из сыромятной кожи неумолимо настигала и жалила пряжкой голые ноги, плечи… Наконец Катя забилась в угол, дрожа и всхлипывая. Папа вытащил ее, усадил на колени, стал гладить по голове и заплетающимся языком просить прощения, но глаза у него при этом были совершенно пустые, мертвые.
Наутро мама вернулась, увидела, что Катя вся исполосована, вызвала милицию. Папе нехотя вкатили очередные пятнадцать суток. Еще через три дня, возвращаясь из школы, Катя столкнулась в подъезде с Дубовиком. Лицо следователя было как у кота, выжравшего банку чужой сметаны, и Кате вдруг захотелось подпрыгнуть и врезать по этому лицу кулаком. Вместо этого она посмотрела следователю прямо в глаза и сказала, поражаясь собственной храбрости: