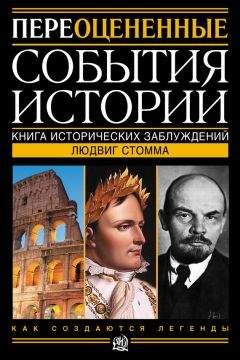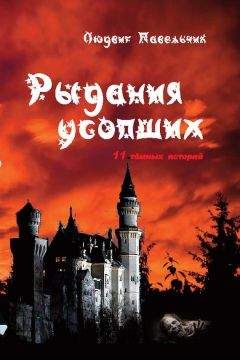Людвиг Павельчик - Тропами ада
Я стал читать подписи под каждым из портретов, стараясь в полной мере почувствовать атмосферу того времени, когда он создавался. Не имея в распоряжении таких средств, как фотография, которая еще не существовала либо находилась на заре своего развития, запечатлеваемые вынуждены были часами высиживать перед портретистом, ожидая, пока тот увековечит их образ для потомков.
"Аманда Доротея Террано, 32 года, 1692" – прочел я под портретом статной брюнетки, смотрящей строго и похожей на неприступную крепость.
"Роберт Андре фон Линц, 47 лет, 1711" – военная выправка, чуть сдвинутые густые брови…
"Люция Генриетта Лемерт", 28 лет, 1740"…
Увлеченный этим занятием, я не заметил, как Грета осторожно приблизилась ко мне сзади. Лишь почувствовав ее дыхание у себя на шее, я обернулся.
– Это все твои родственники? – осведомился я с любопытством, ибо даже для консервативной глубинки знание собственной родословной далее четвертого-пятого колена было в наше время редкостью.
– Конечно. Бабка не стала бы держать в доме чужих работ и портретов, она слишком старомодна и, к тому же, поглощена гениалогией семьи. Вся мазня на той стене исполнена представителями семейства, хотя, справедливости ради, не все рисунки и полотна так уж никчемны. Бабка даже на свой лад гордится ими. Вообще, стоит только задеть тему родни, и можно часами слушать бесконечные рассказы и легенды о доблестях и прелестях славных представителей рода, – Грета засмеялась, – создается впечатление, что на протяжении веков в семье не было ни одного подонка, развратника или мошенника. Удивительно, почему это большинство из них не были определены в святые. К счастью, бабке не удастся исправить эту оплошность.
В ее голосе искрился присущий современности цинизм, но, зная истинное отношение Греты к родственнице, я понимал, что это лишь бутафория. Кроме того, потуги стоящего на берегу Леты и готовящегося сгинуть в ее темных водах поколения навязать молодежи свою утрированную сентиментальность и в самом деле порой способны были вызвать улыбку, а иногда и раздражение, при всем уважении к их сединам и истинности вышесказанного.
Слушая веселую болтовню подружки, я продолжал исследование портретов.
"Марио Вильгельм Арсани, 33 года, 1779" – залихватски закрученные усы и хитрый взгляд из-под прищуренных век придавали Марио скорее облик русского гусара, чем патриарха одного из европейских семейств.
– Не удивляйся именам – в нашем роду чего только не намешано: итальянцы, немцы, французы, голландцы… Даже, вроде, один чех затесался. Ну, и детей называли сообща, не желая обидеть друг друга. Так уж повелось, – Грета как будто извинялась за предков, не удосужившихся сохранить пресловутую "чистоту нации" и так и не приобретших дворянского титула, при всех их доблестях и благодетелях, превозносимых бабкой.
Однако и к крестьянскому сословью праотцы Греты явно не принадлежали, о чем свидетельствовали богатые одеяния изображенных на портретах людей, среди которых нередко мелькала и военная форма. В знаках различия того времени я понимал мало, но печать статного достоинства на лицах воителей не позволяла отнести их к простым солдатам. Помимо того, само наличие этих портретов уже являлось свидетельством некого благосостояния, ибо хорошие художники были в те времена весьма дорогим удовольствием.
Я ущипнул Грету за щеку, дав тем самым понять неуместность ее напускного консерватизма и намекая на мою к ней симпатию; в ответ на это она небольно укусила меня за палец, что я расценил как взаимность.
"Гудрун Маргарета Арсани, 21 год, 1831, автопортрет" – из грушевой рамы на меня смотрела довольно блеклая, незапоминающейся внешности блондинка с усталым взором, ничего общего не имеющая со своим щеголем-отцом. Хотя, может быть, дело не столько в ее невыразительности, сколько в том, что при написании автопортрета лишь упивающийся собой нарцисс решится на явные приукрашения, презрев рамки объективности. Как бы там ни было, изображение занимало достойное место в ряду портретов. Я вспомнил, что уже видел это имя на некоторых работах с противоположной стены.
– Довольно милая женщина, – заметил я вежливо, чувствуя себя обязанным как-то реагировать на каждый экспонат этого домашнего музея, чтобы не расстраивать невниманием моего гида. – Она была художницей?
– Вроде того. Во всяком случае, таковой слыла в округе. Кстати, милого в ней мало, и ты не должен непременно проявлять светскую учтивость, – как всегда тонко улавливая все нюансы коммуникации, откликнулась Грета. – Это моя прапрабабка, за год до смерти; она, и в самом деле, была довольно невзрачной и болезненной, хотя, говорят, было в ней что-то "не от мира сего". Картины вот… Пожалуй, так и уйти бы ей в небытие, предоставив другим блистать в легендах, если бы не один случай, сделавший ее самой загадочной и даже, я бы сказала, роковой фигурой всего племени… Куда уж всем этим воякам!
С этими словами девушка отошла в противоположный конец комнаты, где располагался столик с напитками, и налила по глотку рома в два широких стакана. Вернувшись, она протянула один из них мне и, чуть пригубив ароматного напитка, замерла, глядя куда-то сквозь стену.
Я последовал ее примеру и по достоинству оценил великолепное качество предложенного мне спиртного, не шедшего ни в какое сравнение с той кислой бурдой, что можно было получить в кабаке при гостинице.
Полагая, что Грета ожидает вопроса с моей стороны, я попросил ее рассказать поподробнее об упомянутом случае, тем более, мне и самому было довольно интересно, какими же деяниями могла войти в историю эта бледная особа, прапрабабка моей подруги.
– Ты не хочешь этого слышать. Однажды ты уже отказался от этой повести, поэтому не будем поднимать тему вновь, – теперь Грета говорила абсолютно серьезно, без тени своей всегдашней иронии в голосе, и от этого мне стало не по себе. Так или иначе, но сама она относилась очень трепетно к этой, неизвестной мне, саге, и я не склонен был более объяснять ее настороженность и волнение, в том числе и в тот первый памятный вечер в баре, внушениями старухи. Я знал Грету уже не первый день и мог неоднократно убедиться в ее здравомыслии и незаурядных интеллектуальных способностях, равно как в ее склонности к сарказму и скептицизму касательно практически всего окружающего, пока дело не доходило до мифов, связанных с серым домом у реки, где я имел неосторожность арендовать аппартаменты. Тут в ней появлялась какая-то фанатичность, граничащая с одержимостью и, надо признаться, до прошлой ночи внушавшая мне опасения за ее психическое здоровье.
– Это как-то связано с тем делом?, – я был почти готов разобраться наконец с подоплекой всего происходящего.