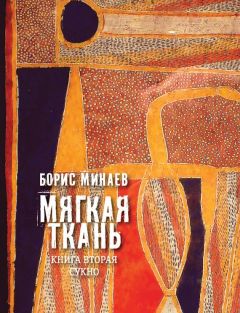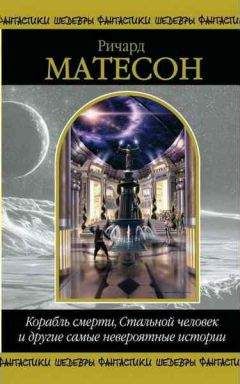Джон Харвуд - Сеанс
— Корнелиус Раксфорд — племянник Томаса, ближайший из живущих родственников мужского пола — подал петицию в Суд лорда-канцлера[23] о признании Томаса скончавшимся. Он — Корнелиус — был членом ученого совета какого-то малоизвестного кембриджского колледжа, но ушел с должности, как только получил решение суда, примерно в 1820 году, как мне думается, и вступил во владение Холлом. Там он и оставался следующие сорок пять лет, живя совершенным отшельником, вплоть до весны нынешнего года, когда произошло точно то же самое: он ушел к себе, как обычно, и снова, по странному совпадению, ночью разразилась необычайно сильная гроза… И больше его не видели.
— Но… Как вы думаете, что же с ним сталось?
— Никто не знает. Разумеется, это вызвало немало толков; всеобщее мнение в пабе гостиницы «Корабль» сводится к тому, что обоих унес сам дьявол. Я сам задаюсь вопросом, возможно ли, что судьба Томаса Раксфорда так занимала мысли его племянника, что в конце концов его разум помутился и под влиянием грозы он почувствовал, что должен последовать примеру своего дяди?
— Словно король Лир на вересковой пустоши, — сказала Ада. — Я очень хорошо помню ту грозу: Корнелиус, должно быть, и правда потерял разум, если вышел в такую бурю.
— А что же теперь станет с Холлом? — спросила я.
— Я полагаю, наследник, некий Магнус Раксфорд — о нем я ничего не знаю — уже подал петицию о вынесении заключения о смерти. Это заставит кое-кого из судей высоко поднять брови, но я не думаю, что он столкнется с большими трудностями при получении такого заключения: Корнелиусу, по всей видимости, было не менее восьмидесяти.
— Ну вот, — сказала Ада. — А теперь нам пора уже поговорить о чем-нибудь более веселом.
Я не стала больше настаивать на продолжении темы, но образ старика, плетущегося, запинаясь, по темному лесу, жил в моей памяти еще долго после того, как исчез из вида Монаший лес.
Примерно час спустя мы увидели вдали орфордскую башню — огромное, тяжелое строение со многими башенками, сложенное из изъеденных временем коричневых кирпичей, скрепленных серым известковым раствором. Башня стояла на земляном холме — возможно, насыпном — позади которого виднелись немногие, далеко отстоящие друг от друга домишки, хотя деревушка выглядела совершенно заброшенной. Когда мы подошли поближе, я заметила мольберт, установленный недалеко от башни. На нем был натянут холст, но художника нигде не было видно: очевидно, он зашел в один из домишек. Я не смогла удержаться от соблазна рассмотреть картину.
Это был, как я и ожидала, этюд башни, но маслом, не акварелью, и он напомнил мне о каком-то месте, хорошо знакомом, но каком именно, я не могла сразу определить. Художнику удалось передать огромность и тяжеловесность башни, то, как она вроде бы нависала над вами, но тут было нечто, гораздо большее — что-то зловещее, чувство неизбежной угрозы. Пары близко расположенных друг к другу окон под зубцами наводили на мысли о глазах… Вот в чем дело! Это было похоже на дом моих ночных кошмаров: настороженный, живой, прислушивающийся…
— Это… гм… Это поразительно, — сказал Джордж, остановившись у меня за спиной.
— Ужасно зловеще, — в свою очередь сказала Ада.
— Мне кажется, это замечательно, — сказала я.
— Я в восторге оттого, что вам так кажется, — произнес голос, шедший вроде бы из земли позади меня. Я резко обернулась — из высокой травы в нескольких футах от нас поднималась какая-то фигура. Мужчина — молодой человек — худощавый, не очень высокого роста, в брюках из твида и в сорочке без воротничка, к тому же довольно сильно испачканной красками. — Простите, что напугал вас, — продолжал он, стряхивая с одежды налипшие семена травы. — Я заснул, и ваши голоса влились в мои сны. — Эдуард Рейвенскрофт, к вашим услугам.
Точно так, как это произошло с картиной, он напомнил мне кого-то, с кем я виделась раньше, но я не могла определить, кто это был и где; и, разумеется, я никогда не слышала этого имени. Он был, вне всякого сомнения, красив: темно-каштановые волосы падали на лоб, прекрасная кожа, чуть загрубевшая и покрасневшая на солнце, темные глаза с тяжелыми веками, довольно длинный, с высокой переносицей нос, прямой и узкий словно клинок, и необычайно обаятельная улыбка.
— Это нам следует просить у вас прощения, — сказала я, как только Джордж нас представил. — Мы без разрешения подошли к вашей картине… и вторглись в ваши сны.
— Вовсе нет — восхитительное пробуждение! — ответил он, по-прежнему мне улыбаясь. — Значит, она представляется вам законченной?
— О да! Она — совершенство. Она напоминает мне о сновидении, часто приходившем ко мне раньше — на самом деле, должна признаться, о ночном кошмаре.
— Это очень лестно… Хотя мне не хотелось бы тревожить ваш сон. Ведь самое трудное — понять, когда следует остановиться; я очистил палитру час назад, испугавшись, что могу все испортить.
Мы некоторое время постояли все вместе, ведя беседу, во время которой выяснилось, что он путешествует пешком по графству, по пути занимается этюдами, рисует и пишет картины. Он профессиональный художник, пока пробавляется небольшими заказами, в основном пишет «портреты» загородных домов; он не женат, его овдовевший отец живет в Камбрии. Сам он последние несколько дней живет в гостинице близ Олдебурга, совершая вылазки вдоль побережья.
Я уже поняла, что хочу снова увидеться с Эдуардом Рейвенскрофтом, и принялась петь хвалу Чалфорду, в надежде, что он может нанести нам визит. И действительно, ему так понравилось описание Чалфорда, что он спросил, нельзя ли ему проводить нас туда; он может остановиться в «Корабле» и обследовать окружающие места. К этому времени Джордж разглядел дорогу, по которой нам следовало сюда идти, так что путь к дому пролегал совсем не близко от Монашьего леса. Мне понадобилось всего лишь обменяться с Адой выразительным взглядом, чтобы Эдуард, задолго до того, как стало видно Поле Римских известковых печей, получил приглашение остановиться на несколько дней у них в доме.
Несколько дней пребывания Эдуарда превратились в неделю, которую мы с ним провели — или это так представляется мне в воспоминаниях — исключительно в обществе друг друга, каждый день выходя на многочасовые прогулки или во «двёр» — беседовать. Если не говорить о его таланте художника, он не отличался особой ученостью, не был и очень начитан; он не проявлял большого интереса к религии или философии, но он был красив — именно это слово пришло мне на ум, когда я его впервые увидела, а не «хорош собой», и обладал замечательным даром: он умел радоваться; мир вокруг меня стал полон жизни, и я полюбила Эдуарда. На четвертый день он меня поцеловал и признался в любви… или, может быть, сначала признался, а потом поцеловал — не могу припомнить, и с этого момента и до конца (я напишу об этом, каким бы нескромным или хуже того это ни показалось) я желала, чтобы он любил меня по-настоящему, не зная даже, что это на самом деле означает, а не только целовал и привлекал к себе так крепко, что я чувствовала, что вот-вот растаю от блаженства.