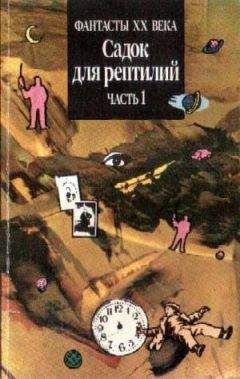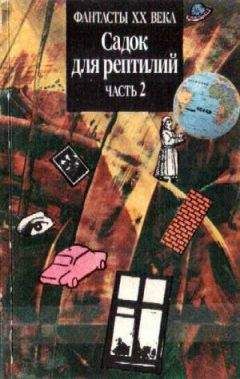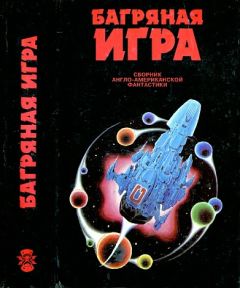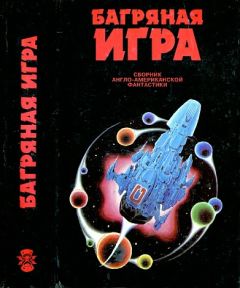Джозеф Ле Фаню - Проклятый остров
Одна такая история особенно поразила меня, и я приведу ее здесь, правда, мне, к сожалению, не передать его бесподобный, пожалуй, слишком правильный английский язык и легкий акцент, который, на мой вкус, лишь умножает волшебство этой истории. Но расскажу как сумею и постараюсь ничего не упустить.
«Я ведь еще не рассказывал вам о том, как мы с Нильсом пошли через холмы в Хальсберг[69] и попали в Мертвую Долину? Ну-с, вот как это случилось. Мне было тогда лет двенадцать, а Нильсу Шёбергу, сыну соседского помещика, на несколько месяцев меньше. В то время мы с Нильсом были неразлучны, как говорится, не разлить водой.
Раз в неделю в Энгельхольме устраивали рыночную торговлю, и мы с Нильсом непременно туда наведывались поглядеть на всякую всячину, которую свозили на рынок со всей округи. И однажды мы прямо-таки обомлели: какой-то старик, живший за Эльфборгским кряжем, принес на продажу щенка, который нас совершенно покорил. Он был кругленький, пушистый и до того уморительный, что мы с Нильсом сели на землю и, наблюдая за ним, покатывались со смеху, пока он не подбежал к нам и не затеял с нами игру, и так это было весело, что мы тотчас поняли: ничего нам больше в жизни не нужно, только бы купить у старика его собачку. Но увы! У нас и половины денег не набралось, чтобы расплатиться, и пришлось упрашивать старика не продавать щенка до следующего рыночного дня — мы клятвенно обещали принести тогда нужную сумму. Он дал нам слово, и мы опрометью помчались домой умолять наших матушек ссудить нам денег на собачку.
Деньги мы добыли, но утерпеть до следующего рынка нам было невмочь. А ну как щеночка нашего продадут! Нам страшно было представить себе такое, и мы принялись ныть и канючить, чтобы нам разрешили самим пойти за холмы в Хальсберг, где жил тот старик, и забрать у него собачку, и в конце концов нас отпустили. Если выйти на рассвете, то к трем часам пополудни мы должны были добраться до Хальсберга, где нам предстояло заночевать у Нильсовой тетки, с тем чтобы на следующий день до полудня тронуться в обратный путь и к закату вернуться домой.
Едва взошло солнце, как мы двинулись в поход, получив перед тем подробнейшие наставления относительно того, как нам поступать во всех мыслимых и немыслимых обстоятельствах, и напоследок — неоднократно повторенный приказ тронуться в обратный путь с утра пораньше, чтобы наверняка добраться до дому еще засветло.
Мы с восторгом предвкушали дальний поход и выступили в полной экипировке, с ружьями, раздуваясь от важности, однако путешествие оказалось совсем не тяжелым — шли мы по нахоженной дороге через высокие холмы, которые мы с Нильсом отлично знали, исходив с ружьями чуть не половину всех склонов по эту сторону Эльфборга. За Энгельхольмом расстилалась вытянутая долина в обрамлении низких гор, и, миновав ее, нужно было еще три-четыре мили идти по дороге вдоль холмов, пока слева не покажется тропинка, которая выведет нас наверх к перевалу.
Ничего интересного по пути через перевал не случилось, и мы в положенное время добрались до Хальсберга, где, к нашей вящей радости, обнаружили, что щенок не продан, и, забрав его с собой, пошли устраиваться на ночлег к тетке Нильса.
Почему на следующий день мы не выступили в путь рано утром, я сейчас уже толком не помню, знаю только, что сразу за городом мы заглянули на стрельбище: там сквозь нарисованным лес плавно двигались яркие фанерные свиньи-мишени. Так или иначе, по-настоящему в обратный путь мы выступили хорошо за полдень, и когда, стараясь наверстать упущенное, пошли в гору, то увидели, что солнце стоит угрожающе близко к вершинам, — и тут мы немного струхнули, предчувствуя, я думаю, какой допрос нам учинят и какое, вероятно, нас ждет наказание, если мы явимся домой среди ночи.
В общем, вверх по склону мы взбирались чуть ли не бегом, а между тем вокруг сгущались синие сумерки и в пурпуровом небе угасал дневной свет. Поначалу мы весело переговаривались и щенок то и дело забегал вперед и скакал сам не свой от радости. Затем, однако, нами овладело странное гнетущее чувство, мы замолчали и даже перестали ободряюще посвистывать ему, хотя песик теперь отставал и едва плелся за нами, будто лапы у него налились свинцом.
Мы благополучно одолели предгорье с низкими отрогами и почти поднялись на вершину кряжа, когда жизнь вдруг словно покинула природу, мир как будто вымер — так внезапно стих лес, так неподвижно застыл воздух. И мы поневоле остановились и прислушались.
Полнейшая тишина — сокрушительная тишина ночного леса; только еще страшнее — ведь даже сквозь непостижимую монолитность лесистых склонов всегда пробивается многоголосое шебаршение всякой мелкой живности, пробуждающейся с приходом ночи, звуки, умноженные и усиленные неподвижностью воздуха и кромешной тьмой… Но здесь и сейчас тишина стояла такая, что, кажется, ни один листочек нигде не шелохнулся, ни веточка не качнулась, вообще ни звука — ни от птицы ночной, ни от букашки, ничего! Я слышал, как кровь стучит у меня в жилах; и хруст травы под ногами, когда мы робко двинулись вперед, отдавался в ушах таким грохотом, словно кругом валились деревья.
Воздух был как стоячее болото — безжизненный. Удушливая атмосфера давила, словно толща морской воды на ныряльщика, дерзнувшего слишком глубоко погрузиться в мрачную бездну. То, что мы привычно зовем тишиной, заслуживает такого названия лишь по контрасту с шумом и гамом повседневной жизни. Здесь же тишина была абсолютной, от нее мутился рассудок, зато обострялись чувства, и она обрушивалась на тебя жуткой тяжестью неодолимого страха.
Помню, как мы с Нильсом смотрели друг на друга в безотчетном ужасе, слыша только собственное тяжелое и частое дыхание, которое наш обострившийся слух воспринимал как прерывистый шум прибоя. Несчастный пес всем своим видом подтверждал обоснованность наших страхов. Гнетущая черная тишина убивала его не меньше, чем нас самих. Припав к земле, он слабо скулил и медленно, словно из последних сил, подползал поближе к ногам Нильса. Наверное, столь наглядное проявление животного страха было уже последней каплей и неизбежно сокрушило бы наш разум — мой, во всяком случае; но именно в это мгновение, когда мы тряслись от страха на пороге безумия, раздался звук столь ужасный, жуткий, душераздирающий, что он разрушил-таки чары и вывел нас из смертельного оцепенения.
Из самых недр тишины послышался крик — вначале утробный, скорбный стон, который затем, набирая высоту, превратился в заливистый визг, а после разросся до пронзительного вопля, вспоровшего ночь, разъявшего мир словно вселенская катастрофа. Какой это был страшный, жуткий крик!.. Я отказывался верить, что слышу его наяву: этот звук был ни с чем не сопоставим, он выходил за границы правдоподобного, и на миг я даже подумал, что это порождение моего собственного животного страха, галлюцинация, плод повредившегося рассудка.