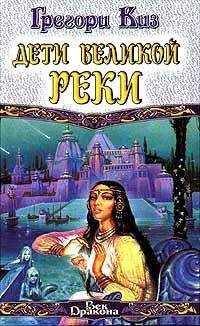Юрий Петухов - Воскресший, или Полтора года в аду
Я ввалился в раскрывшуюся дверь и сшиб какого-то пьянчугу, он вывалился во тьму, завопил какую-то зверскую песню без слов, он даже не понял, с кем столкнулся в ночи.
В вагоне сидел босяк, наверное, бомж, их стало слишком много, расплодились как тараканы. Он глядел на меня, голого и зеленого, моргал глазами, но не пугался. Небось, он видывал и не такое — и инопланетян, и чертей рогатых, и бесов мелких. Алкаша, который из горячки в горячку впадает, особо не удивишь.
— Спи, дружок, — сказал я ему, — это тебе все снится.
Бомж послушно уснул. Может, он меня и не слышал вовсе.
Еще через две остановки в вагон ввалились два мента в каких-то пятнистых робах, при моей жизни таких не было, но я сразу просек — это менты. Один сунулся было ко мне, но остановился, махнул рукой, тряхнул головой — видать, подумал, что спятил, другой тряс бомжа. Вытряс из него бутылку водки и какую-то дрянь. Бутылку сунул в карман, дрянь бросил на пол, залепил бомжу затрещину.
— А этот хер чего расселся? — спросил он грубо у «спятившего».
Пойдем, заспешил тот, — ну его, больной какой- то, гляди, зеленый., а кожа? Валим отсюда, еще подцепишь чего-нибудь от этой падали!
Он погрозил мне кулаком.
И оба ушли.
Больше до самой Москвы меня никто не тревожил.
Этот проклятый колдун гнал меня в Москву. В самый рассадник заразы, в скопище сволочей и гадов. Зачем?! Ведь меня могли схватить в любую минуту!
Еще на ходу я вылез в окно, спрыгнул с перрона. За кустами хрен кто увидит! Но сила влекла, волокла меня вперед. В кустах два гастролера, черных и кудрявых, натягивали какую-то девку лет тринадцати, белобрысую и опухшую.
Один вызверился на меня, не бросая своего дела.
— Уходы, твар! — зашипел он.
— Прырэж его! — злобно сказал другой,
Девка ничего не сказала, у нее рот был занят.
Я руки не успел вскинуть, как первый саданул мне под ребро ножом — боль пронзила сердце. Я мог бы убить его, разорвать на части. Но колдовская сила бросила меня вперед — ломая кусты, хрипя, крича и дико матерясь, я носорогом попер вперед. Я уже знал, что надо идти в самый центр. Но как?! Это же Москва! Это не Хренореченск какой-нибудь вшивый, где по ночам души живой не встретишь! Боль прошла, рану под ребром затянуло. Но душа ныла и стонала.
— Сапсэм бэшэный! — донеслось мне в спину.
Мне было плевать на гастролеров. Я хотел обратно в ад. В преисподнюю!
Но колдун был сильнее меня. Лишь на очень короткий миг мне удалось вырваться из его власти. У какой-то сарайной будки, почти у вокзала валялся забулдыга. Я прыгнул на него рысью, в мгновение ока вытряхнул его из пиджака и штанов, ухватил за волосы и с размаху долбанул мордой о бетонную стену, чтоб не вопил, не подымал шума. И снова меня бросило вперед. Я не мог даже одеться, я тащил эти лохмотья в руках. И на меня озирались люди.
Казанский! Это был Казанский вокзал — скопище убийц, проституток, воров, сифилитиков, всяких прочих гадов. Три бана! Три вокзала! Гнойная язва разлагающегося трупа, который все еще по привычке называли Москвой.
— Эй, красавчик, погоди! — с идиотским, пьяным хохотом окликнула меня седая патлатая старуха, которую два беспризорника лет по одиннадцати, лапая и оголяя, тащили в темень, к забору.
— Муж-жшына-а-а, ну иди ко мне, ну поучи этих щеглят, мать их, они всю изорвут, изомнут, а толку от них… и-эх!
А один гаденыш обернулся, плюнул, да так сильно и метко, что я еле увернулся. Бог с ним! Тянет. Страшно тянет куда-то. Пиджачишко драный и вонючий я набросил на голое тело. А со штанами долго провозился, три раза падал, подымался… а вокруг, у стен, по всему вокзалу валялись какие-то ублюдки — грязные, избитые, опухшие, издыхающие, завшивленные, гадящие прямо под себя, и мужики, и бабы, и старики, и старухи… будто вся шваль, вся рвань и погань со всей Расеи-матушки собралась тут на шабаш. Раньше мне такого видеть не доводилось, раньше всю эту сволочь держали в приемниках и психушках, в богадельнях и на зонах, Я еще не знал тогда, что наступила демократия, что бездомных и бесхозных больных повышвыривали отовсюду, бросили подыхать. Это потом я просек, что зажравшимся богатеям надо видеть, как они богаты, что эта нищета и рвань, по которой они разъезжают на мерседесах, оттеняет их роскошь. Им бы всю Россию положить вот так, издыхающей, завшивленной, в отрепьях и дерьме… а самим сверху, в белых смокингах! Только мне лапшу на уши не навешаешь, я-то знаю, настоящее дерьмо, гнусное и вонючее, это они сами и есть!
Меня несло вперед. И никто не обращал на меня внимания, я почти не выделялся среди этих полуживых ублюдков, полумертвых алкашей и наркотов. Отъезжающие, приезжающие не глядели на бомжей, воротили рыла, перешагивали через этих дохляков… И кого было больше на Казанском и по всей площади, не знаю.
Только меня волокло в центр.
Меня аж трясло всего. А в голове глухо стучало: Арбат, Арбат, Арбат! Я уже представил себе старую мощеную улочку, на которой когда-то гулевал с корешами, сорил хрустами — просаживал в кабаках за ночь годовую зарплату академика. Тогда это были денежки! Тогда зажравшейся валютной сволочи почти не было, и какой-нибудь суке могли бросить под подол тыщу деревянных, но тыщу баксов… никогда! Дважды ко мне подваливали какие- то крутые фраера, но не доходили, носы морщили, отворачивались — понятненько, трупной падалью несет, а кому охота в падали ковыряться. Безумная столетняя старуха с бельмами на глазах и седой щетиной совала в нос флакон одеколону, шипела чего-то. Отмахнулся. Менты на меня даже не глядели, у этих глазок наметанный, они знают — с кого можно чего-то поиметь, им всякие болтающиеся туда-сюда мертвяки в рваных моченых штанах не нужны.
Попер прямо через газон. А там табор цыган, да каких-то убогих, нищих, злобных. Мальчишки меня камнями обкидали, заплевали. Через весь город пер пехом, все больше по закоулкам, дворами грязными и погаными. Дикая Москва была, жуткая, будто война по ней прошлась, не такой я ее помнил, не такой — была логовом всякой мрази, а стала выгребной ямой у холерного барака. И все сердце щемило, слезы с глаз не сходили: ведь наверху я! среди живых! на белом свете! и не пытает меня всякая сволочь дьявольская! Дышу! Живу!
А вынесло меня почему-то не на старый Арбат. А на Калининский. Из дворов, из тьмы-тьмущей зырился я на свет и огни, на машины редкие, на фонари. А когда подволокло меня силой колдуна к одному небоскребу, все понял сюда надо!
И сразу вся спешка прошла. Сразу мозг прояснился. Дрожь пропала в теле, мышцы мои мертвяцкие силищей сатанинской налились. А в мозгу вдруг голос прозвучал:
«Ты слышишь меня, раб!»
А я вслух как заору от неожиданности: