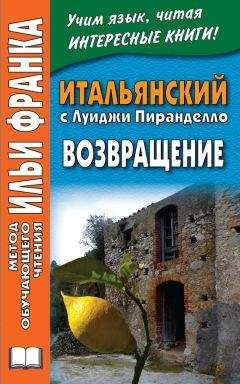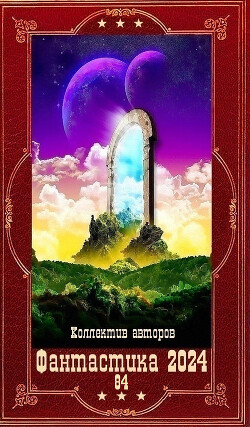Уиронда. Другая темнота (сборник) - Музолино Луиджи
Тела женщины и ребенка.
Эрмес закричал. Но не криком ужаса или раскаяния. Это был крик изумления, когда сомнений больше не осталось, когда он все понял и все вспомнил. Эрмес увидел поднятую к небу руку высотой с небоскреб, накрашенные желтым лаком ногти размером с кита. Розовые холмы груди. Темный портик пупка.
Вдали что-то горело. Сначала Эрмес подумал, что это причудливое пшеничное поле красного цвета. Теплый, воняющий гнилью ветерок качал стебли.
Волосы фантастически рыжего цвета – как пылающий закат.
Рот ребенка, приоткрытый в тщетной попытке не задохнуться от удушения.
Симоне.
Эрмес долго бродил по Уиронде. Смотрел на гигантскую рану в том месте, где была оторвана голова в порыве бессмысленного насилия и жажды мести.
Даниэла. О, Даниэла, мне жаль.
Два голубых глаза-окна размером с Нотр-Дам.
Эрмес заглянул в каждый уголок, прошел под арками зубов и по ресницам, по туннелям слизистых оболочек, забрался в пещеры с ушной серой. Повсюду виднелись алые лужи, под ногами хлюпало.
Он понюхал раны и порезы, смертельные следы от ударов ножа, которые не должна наносить рука ни отца, ни мужа, провел дрожащими пальцами по перерезанным венам, плача, оглядел предгорье вагины, увенчанной заброшенным теперь алтарем клитора.
Услышал хрип нервных окончаний, которые невозможно вернуть к жизни.
Когда Эрмес слишком устал, чтобы идти дальше, он лег в тени отрубленной головы Даниэлы, на матрас залитых мозговым веществом волос, и стал смотреть в темное небо, освещенное кровью Уиронды.
Закурил последнюю сигарету. От нее пахло дымом и плотью.
Остекленевшие глаза Симоне – огромные, какие бывают только у детей, – с упреком смотрели на него с северной окраины города-миража, открывшего ему правду.
Боже мой, что ты сделал? Боже мой Боже мой Боже мой…
Спину прострелило ужасной болью.
Точно такой же, которая пронзила его тело, когда он рухнул на камни, спрыгнув с виадука.
Ветер смерти больше не дул.
Кровавое свечение Уиронды потухло, как угли брошенного костра.
Незадолго до того, как Эрмес Ленци погрузился в сон без сновидений, он все еще сжимал в руках последнюю сигарету.
Потом его глаза закрылись, застывшая Уиронда заключила тело в своих объятиях, как властная и жестокая мать, но Эрмес чувствовал – город будет ждать, когда он проснется, чтобы снова заставить его пройти все круги ада и раскаяния.
Блестящий, беспощадный, мертвый.
И так будет всегда.
Муравьи
Он увидел их, как только глаза привыкли к полумраку, царившему во дворе. Их было несколько сотен.
Мирко выпрямился в шезлонге, где удобно устроился пару минут назад, чтобы насладиться весенним ветерком, и глубоко затянулся. В фонарь за спиной упрямо бился рой мотыльков, и звук напоминал тиканье часов, сошедших с ума. Облака цветов, о которых с такой любовью заботилась Лючия, лениво покачивались над клумбами, как пестрая толпа в ожидании начала концерта.
Он наклонился вперед, почти уткнувшись носом в стену сухой кладки, которая отделяла его двор от соседского: по ней, волоча кусочки листьев, крошки и песчинки, двигалась двойная колонна черных муравьев. То натыкаясь друг на друга, то топчась на месте, они упрямо шли вперед, чтобы затащить добычу в щель между камнями, размером с кулак, которая, конечно же, вела под землю. Наверняка, в большой муравейник. Интересно, сколько там муравьев? Вот бы узнать.
Они не обращали на Мирко никакого внимания.
Казалось, для муравьев имеет значение только работа, а гигантская человеческая вселенная их совсем не интересует.
Способность муравьев передвигаться по отвесной стене всегда поражала Мирко. И немного пугала. Ему не нравилось, как они ползают – подозрительно вытягивают головки, содрогаются от пульсации крошечных сердечек. Но самое противное – это, конечно, движение головы. Будто они специально наклоняют ее, чтобы быть настороже или лучше слышать, болтая между собой или обсуждая свои муравьиные секреты.
Инопланетяне. Эти существа – настоящие инопланетяне.
Мирко еще раз затянулся и поморщился, когда горький вкус никотина обжег горло. Потом выпустил дым в насекомых: озадаченные участники процессии на несколько секунд разбежались, а потом снова восстановили порядок и возобновили шествие.
Из-за облака выглянул месяц, похожий на сонный глаз, прикрытый морщинистым веком.
Мотыльки продолжали свой безумный танец. Было прохладно. Вечер как вечер, ничего особенного.
– Так ты придешь? – крикнула из спальни жена.
Хрипловатый голос просочился через приоткрытую входную дверь, пересек двор и эхом отскочил от гравия. Он представил ее в постели – полуголая, в ожидании мужа высчитывающая дни овуляции. Они пытались зачать ребенка, хотя Мирко боялся – а может, надеялся, – что уже слишком поздно. Им обоим, знакомым пять лет, женатым два года, было за тридцать пять.
Мирко сомневался, что готов стать отцом, – а если он сомневается в тридцать пять, то можно ли надеяться, что когда-нибудь перестанет? – но Лючия уже полгода только об этом и твердила, уверенная, что появление ребенка оживит их отношения, которые утратили новизну. Может, она права.
– Да, любимая, иду, иду. Сейчас докурю и приду, – громко ответил он, прежде чем еще раз затянуться сигаретой, от которой остался маленький смятый окурок. Потом фыркнул, напрягая мышцы ног. И понял, что не испытывает никакого желания заниматься сексом. Накануне, после двух раундов, несмотря на все усилия жены, член наотрез отказался вставать.
Мирко снова закурил и вдруг замер.
Уставившись на муравьев.
Взял зажженную сигарету большим и указательным пальцами, приметил муравья, который немного отошел от стройной колонны трудолюбивых сородичей, и нарочито медленно приблизил к нему тлеющий кончик.
Насекомое остановилось, уронив крохотную хлебную крошку. Потом подняло голову и покачало усиками, – видимо, нюхало воздух.
Мирко с интересом рассматривал его, не убирая сигарету.
Потом задержал дыхание.
В ветках плешивой сосны тоскливо закаркала ворона.
Захрустев сухими листьями, по двору пронесся порыв ветра.
Мирко выдохнул.
От жара усики муравья свернулись в комок, как брошенные в огонь целлофановые пакеты. В следующее мгновение та же судьба постигла и тело: оно задрожало, завибрировало, затряслось в конвульсиях, а потом, испуская микроскопические клубы дыма, съежилось в смертоносном пекле. Голова муравья резко дернулась вправо, потом влево, и Мирко представил, что слышит его крик. Это ему просто показалось? Или на самом деле до него донесся отчаянный предсмертный вопль?
Ножки насекомого защелкнулись на животе, как капкан, – обугленные, тоненькие, изуродованные.
– Ты придешь или нет? – не унималась Лючия. Голос звучал капризно, но игриво.
Окурок выпал у Мирко из рук. Он проводил его взглядом.
– Д-да, иду. Буквально секунду.
Мирко уставился на поджаренного муравья, висевшего на стене. Возможно, он приклеился к камням собственными органическими тканями, расплавившимися от огня.
Ужасный памятник тому, что все в этом мире тленно.
Зачем ты это сделал?
Вопрос, как упавшая на пол ваза, раскололся у него в голове. Точнее, вроде бы в голове – но в то же время звук разбитого стекла доносился словно откуда-то издалека.
Мирко вопросительно посмотрел на руки и покачал головой. Комар что-то злобно прожужжал в ухо. Мирко вяло отмахнулся, чтобы его прогнать. Попытался улыбнуться (Господи, чего он так переживает из-за муравья?), но в душе возникло неприятное чувство, что, посмотри он сейчас на себя в зеркало, увидел бы в своем лице то, о чем раньше и не подозревал.
Зачем ты это сделал?
Муравей. Этой козявки, поглощенной одним-единственным занятием – тащить крошку в муравейник, спрятанный в чреве стены, – больше не существовало. Вернее, муравей стал чем-то совсем другим.