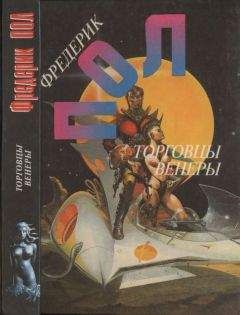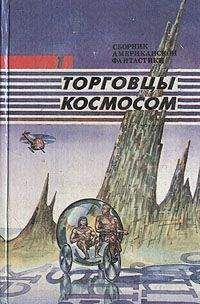Колин Уилсон - Бог лабиринта
– Конечно же, постараюсь сделать все возможное.
Перед уходом они показали мне чердак. Там было очень темно, пыльно и полно всякого ненужного хлама, который собирался там столетиями: сломанные рамы от картин, какие-то балки для неизвестных целей, груды бумаг. Там было все – от хозяйственных счетов до обрывков личных дневников. Я просмотрел некоторые из этих бумаг и понял, что чувствовал профессор Эббот на чердаке дома Форбеса, в окружении рукописей. Воспоминание об Эбботе натолкнули меня на мысль:
– Вы знаете, кого Эсмонд назвал своим литературным душеприказчиком?
Они недоуменно переглянулись.
– Нет. Но мы попытаемся это выяснить. Перед уходом я сказал, что, возможно, вернусь сюда снова и осмотрю бумаги. На это, к моему изумлению, мисс Тина предложила:
– Не лучше ли будет, если мы отдадим их ему сейчас, дорогая?
Они помогли упаковать их на заднем сиденье автомобиля, и я уехал, чувствуя себя смущенным от их доверия. Затем, когда я обдумал все детальнее, я понял причину подобного отношения сестер ко мне. Всеми покинутые, с разбитыми судьбами, они жили в мире разрушенного былого величия, без всяких перспектив, кроме неизбежной, одинокой старости. Они, вероятно, часто задумываются над тем, кто из них первой уйдет из жизни. Когда они умрут, дом, вероятно, перейдет к какому-нибудь дальнему родственнику из Канады или Новой Зеландии. А теперь вдруг большой мир постучался в их двери – издатели, кинематографисты, ученые начнут наносить визиты. Им хотелось верить во все это, поэтому они полагались на меня во всем, относились ко мне с определенной любовью и уважением. То, что я раньше считал величайшим, непреодолимым препятствием – репутация Эсмонда как порнографического писателя – обернулось совсем по-другому, так как я объявил эту порнографию духовной и намерен придерживаться этого мнения и в книге. Фрагмент дневника Эсмонда, который я получил от полковника Донелли, конечно, был довольно откровенным в сексуальном плане, но не более, чем у Босвелла, а сверх того, он был еще и хорошо написан.
Эти соображения прибавили мне настроения. Я подумал, что есть хорошие шансы возродить имя Донелли, когда выйдут его «Мемуары» в издательстве Флейшера. И вообще, передо мной открылись прекрасные перспективы.
Когда я приступил к обработке новой пачки писем, то уже знал, что книга есть – пусть даже не будут обнаружены новые рукописи Донелли. Кроме них, у меня под рукой оказался еще более увлекательный материал.
Удивительно, какие были разные по характерам три корреспондента Эсмонда Донелли – Томас Уолгрейв, Уильям Эстон и Хорас Гленни, каждый из них по-своему высвечивает разные грани его сложной индивидуальности. Уолгрейв – дублинец, основные интересы которого лежат в области астрономии и математики, и его письма к Донелли, главным образом, связаны с этими предметами. Эстон изучал теологию в протестантской семинарии в 1772 году (этим годом датируется его первое письмо), а позже стал священнослужителем в Баллинколлиге, возле Корка, где был расположен его семейный дом. Он был очень озабочен опасными, по его мнению, стремлениями Донелли к безверию и к «энтузиазму» (т. е. фанатизму и мистицизму). Когда Донелли цитирует Вольтера, Вейля или Монтескье, Эстон отвечает аргументами из проповедей Джортина, Оглена, Тиллотсона, Смальриджа и Шерлока. Все это я обнаружил в невероятных количествах в его скучных посланиях – длинные и нудные рассуждения о транссубстанциях, предопределении, истинности Священного писания и т. п. Но Эсмонд не находил письма своего друга скучными и утомительными, так как ответы Эстона были пространными и обстоятельными, указывающими на то, что точно такими же были и послания Эсмонда Донелли.
Письма Гленни особенно хорошо согласовались с тем, что я уже знал об Эсмонде Донелли. Когда я рассортировал эти письма по датам (с определенным количеством догадок – некоторые из них были без дат), то они все выстроились по порядку с мая 1767 года по декабрь 1771 года. Большую часть этого времени Гленни и Эсмонд жили вместе в Геттингене, поэтому их переписка была не такой обильной, как с Эстоном. Понятно, что они обменивались письмами, когда были врозь, а это происходило не часто, так как они были близкими друзьями.
История их взаимоотношений, которую я смог выяснить из писем Гленни, складывалась следующим образом. После того, как Эсмонд встретился с Руссо и Босвеллом в Ньюшателе, он отправился в Милан, где провел Рождество 1764 года. В январе он прожил неделю в Венеции, а следующую неделю – в Гразе по пути в Геттинген. Здесь он познакомился с Георгом Кристофом Лихтенбергом, который позже станет выдающимся философом (но тогда больше интересовался математикой и астрономией), и ближе сошелся с Хорасом Гордоном Гленни. Последний был красивым, смуглым юношей с почти иудейской внешностью, говоривший с шотландским акцентом, немного старше, чем Донелли, но гораздо менее утонченный и образованный, второй сын шотландского помещика из отдаленного района страны. Лихтенберга, Гленни и Донелли объединяло одно – живой интерес к противоположному полу. В Геттингене было полно молодых деревенских девушек – «здоровых, сильных, крупных созданий с долин Гарца и Соллинга, – как писал Лихтенберг, – которые никогда не держали в руках суммы больше талера, и для которых шляпа с пером знатного человека – предмет поклонения, и просьбы такой „шляпы“ звучали для них, как королевские указы». Геттинген слыл городом высокой академической репутации, в отличие от Халле, Йены и Гессена, которые были заполнены деревенщиной, чьи главные интересы составляли дуэли. Но, как и в большинстве других городов Германии, в Геттингене была строгая дисциплина и порядок, крестьяне беспрекословно привыкли подчиняться воле своих хозяев (Геттинген считался также частью Англии, так как Георг III был герцогом Ганновера, так же как и королем Великобритании, поэтому родители выбрали Эсмонду именно этот город для продолжения его образования). Эсмонд и Хорас Гленни бурно радовались открытию, что эти нежные создания не нужно было насиловать, как девушек в имениях у них дома. Гленни упоминает в одном из своих писем, как Лихтенберг насмехался над ним, будто Гленни поставил целью лишить девственности всех невинных девиц в Ганновере, готовясь к воздержанию на всю оставшуюся жизнь, когда он вернется в свою пуританскую страну.
По сравнению с Эсмондом Гленни казался дураком, ну, если не дураком, то, по крайней мере, человеком без интеллектуальной широты своего друга. Эсмонд превосходил его во всем, и Гленни однажды привел в ярость профессора Кастнера, сказав ему, что Эсмонд – величайший разум Европы, вслед за Мозесом Мендельсоном (после этого Кастнер именовал иронически Эсмонда «Великим магистром»). Что больше всего восхищало Гленни в Эсмонде – это редкое сочетание в нем высокого ума и физической силы. Лихтенберг был блестящим ученым, но он был сгорбленным калекой. Эсмонд прекрасно владел шпагой, был отличным наездником, хорошим пловцом и любимцем женщин, а также немного поэтом, философом и мистиком. Гленни нуждался в покровительстве и готов был склониться перед авторитетом. Через несколько месяцев Донелли называл его «апостолом отваги, галантности, любовных интрижек, похоти, чувственности, обольщения, сквернословия, грубости, непристойности, тупости и лишения девственности». Вскоре им наскучили услужливые шлюхи, и они начали ухаживать за дочерьми профессоров и других уважаемых людей города. Оба друга радовались своим успехам у девиц, а Эсмонд находился даже в опасной близости к женитьбе на дочери пастора из Нортен-Гарбенберга фрейлине Ульрике Дуэссен. Все это, однако, не означало, что Эсмонд и Гленни были всегда неразлучны. Гленни, конечно же, был бы счастлив, если бы они никогда не разлучались, но Эсмонд, кроме обольщения местных девиц, интересовался еще и Кантом, и математикой, и астрономией. В своих письмах Гленни выражает обиду, что Эсмонд часто забывает об обязанностях дружбы. Но он восхищался Эсмондом от всего сердца, поэтому покорно принимал ту часть внимания, которую тот соизволил выделить ему.