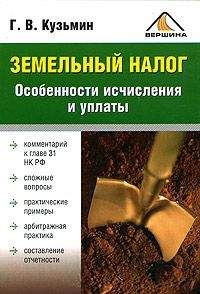Джон Маркс - Страна клыков и когтей
Думаю, Иэн умер естественной смертью. Никаких доводов привести нельзя, но иногда у меня бывают предчувствия. Я невольно думаю, что Иэн был просто слишком хорош для своей работы, для своей жизни, для своего мира, поэтому его просто заставили исчезнуть. Он слишком быстро поднялся. Его слишком любили. Что за вирус способен сожрать молодого человека (тридцать лет!) за каких-то несколько дней? Насколько я тебя знаю, Э., ты сейчас смотришь на монитор темно-карими разами, и шепчешь молитву богу, в которого не веришь. Ты не плачешь. В тебе слишком много от актрисы, чтобы ты позволила себе расклеиться в каком-нибудь задрипанном Интернет-кафе Восточной Европы. Ты подождешь, пока не вернешься в свой номер, а там бросишься на кровать и начнешь рвать на себе черные волосы, потому что не в силах принять факт такой трагедии.
Однако прежде, чем ты сделаешь это, я кое о чем тебя попрошу. Ответь на мое письмо.
Повторяю: ответь на мое письмо.
У нас уже шепчутся, что у тебя тоже не все в порядке, что все мы прокляты: сперва Иэн, потом ты, и кто следующий, и тому подобное. Ведь предполагалось, что ты поедешь в Трансильванию лишь на пять дней. Кому как не мне знать, ведь я заказывал тебе билеты и гостиницу. Я улаживал мелочи. Я перевел тебя в бизнес-класс. Я добился, чтобы тебя поселили в отеле на месте бывшего военного министерства и даже подыскал тебе гостиницу в Брасов, как ты и просила. Это было нелегко. По бюджету тебе полагался билет в оба конца до Бухареста без съемочной группы и пять дней — достаточно, чтобы долететь в столицу Румынии, взять напрокат машину до Трансильвании, встретиться с информатором и вернуться домой. Ты одержима экономией. Ты не любишь грязи и свалок. Ты и минуты лишней в посткоммунистической Трансильвании не задержалась бы.
Когда речь заходит о тебе, я в тупике. Я чувствую себя средневековым клириком в каком-нибудь средневековом замке, и злонамеренный ветер как раз задул свечу.
Э., я должен сказать это сейчас или не смогу произнести никогда. В тот день перед твоим отъездом я хотел поговорить о том, что твои сияющие карие глаза, темные волосы, лишь с намеком на завиток, падающие на высокий лоб, на нежную шею с ароматом корицы, на твои плечи — и на мое плечо, когда ты наклоняешься надо мной, чтобы спросить, пришла ли какая-то незначительная посылка из Лондона, твои свитера с вырезом углом и блузки, которые ты носишь вопреки совету величайшего корреспондента, Князя Тьмы, которые сдвигаются, открывая одинокую родинку на вздымающейся правой груди, твоя бледность в январе, оливковый блеск в августе — все это хранило мой рассудок на нашем двадцатом этаже этого здания. Один надежный человек шепнул мне по секрету, что по материнской линии ты из венецианцев, а венецианки произошли от удивительных византийских принцесс, самых прославленных красавиц Темных веков. В своей бело-голубой полосатой блузке с глубоким круглым декольте ты выступаешь из теней между столовой и центральным коридором, как женщина с римских мозаик, кладешь мне на сердце руки, шепчешь мне на ухо вздохами кондиционированного воздуха, что струится по мрачным коридорам этого прогнившего места, и я знаю, что сгубивший Иэна недуг никогда меня не тронет.
Но что, если что-то с тобой случилось, Э.? Я этого не перенесу. Это меня убьет. У меня есть твой электронный адрес, и этим письмом я открываю тебе душу, открываю, что потерялся в тебе, и тому уже три года — с тех пор, как мы впервые доверились друг другу, всего за неделю до того, как самолеты врезались в соседнее здание, до того ужасного времени под бдительным оком телемониторов, которые все хотели, но не получили тебя, тех темных богов, что правят этим местом, где потолки, как распятия, где суп странен, где стены коридоров тянутся к нам липкими руками и воздух холоден как кожа мертвеца. Этим укрепленным лагерем видеопленки, крепостью с колючей проволокой по стенам, с невидимыми автоматчиками, которые так и подстегивают меня хотя бы на секунду отойти от правил, когда я облегчаюсь в уборной, когда кланяюсь и пресмыкаюсь перед библиотекарями в архиве и иду в столовую за персиковым чаем и миской омерзительного пареного гороха. Отправляя это письмо, я рискую быть уничтоженным. Вот как много ты для меня значишь, Э. Пожалуйста, возвращайся. Мне очень жаль, что так вышло с Иэном. У меня шок. Единственное мое утешение — статистически крайне мала вероятность того, что за одну неделю мы лишимся и продюсера, и заместителя продюсера. Пожалуйста, пусть с тобой будет все хорошо. Пожалуйста, ответь.
Твой Стим-улякр17
Э., прости мне прошлое сумасшедшее письмо. Горе, маленькая зарплата и череда дурных летних фильмов свели меня с ума. Но сегодня мне лучше, я почти в своей тарелке. И у меня есть свежая информация.
Уильям Локайер, эсквайр, твой очаровательный босс, только что засучил рукава.
— Стимсон, — заявил он неучтиво, — вам известно, что у нас завтра просмотр?
Я кивнул, но не повернулся.
— Надо полагать, вы все еще расстроены, — сказал Локайер. — Из-за Иэна.
— Да.
— И, думаю, Эванжелины.
Он неверно произносит твое имя: «Эванжелина». Я каждый раз пытаюсь объяснить ему, что говорить надо «Эван-ге-лина», как в той балладе, но до него не доходит.
— С Эванжелиной все будет хорошо. Она добудет нам сюжет.
Я пишу в десять утра, и свет, отражаясь от реки Гудзон, бьет нам в окна. Погода стоит такая же, как в тот сентябрьский день: роскошная жара, опушенная легчайшим бризом. Ну почему жизнь не может быть хорошей? Впрочем, Локайер как будто убежден, что все хорошо. В розово-полосатой, наглухо застегнутой (даже манжеты!) оксфордской рубашке, заправленной в отглаженные брюки цвета хаки, в вечном своем синем блейзере, он — феномен, розово-шампанский коктейль, а не человек, пошлое вспенивание пузырьков в коридорах. Пусть другие умирают и исчезают. С ним ничего не случится. В «Часе» он ветеран продюсеров. Он — неприкосновенный.
Пару минут назад Локайер врубил свой латиноамериканский джаз, станцевал то ли степ, то ли чечетку, словно мы живем в самом прекрасном из миров. Неужели он щелкнул пальцами? Этот вундеркинд с песочными волосами за десятилетие не состарился. В кабинете у него конфорка, на которой он сам кипятит себе чай. Каждый день он обедает одним и тем же — фруктами в обезжиренном йогурте. Ты говорила, он медитирует, но я никаких признаков не видел.
Твое исчезновение, кажется, нисколько не выбивает его из колеи, но в любую минуту может позвонить его корреспондент Остин Тротта, и тогда состоится неизбежный разнос. Тротта не дурак. Он читает правильные книжки, смотрит правильные фильмы. Он знает, что с тобой не все в порядке. Он знает, что ты не работаешь под прикрытием. Он, как и я, знает, что ты в беде. У него на такие вещи интуиция. Но Локайер будет противиться такому негативному толкованию. В их с Троттой разговоре будут подводные течения, скрытые упреки, но Локайер их проигнорирует. Он будет держаться домысла, что ты просто tete a tete[3] с одним из будущих интервьюируемых, выбиваешь лучшие условия сделки.