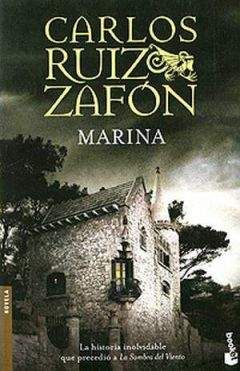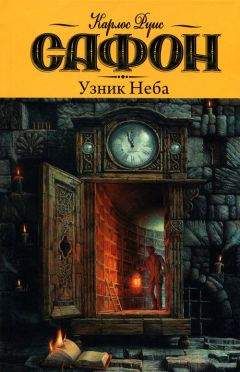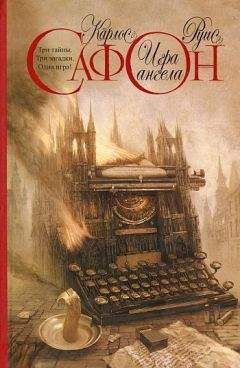Карлос Руис Сафон - Марина
Флориан поколебался, прежде чем ответить.
– Понимаете, там было подозрение, что он проводил какие-то манипуляции с телом покойного…
– В смысле?..
– В рапорте из Праги на этот счет не было уточнений, – сухо ответил отставной и стал сосредоточенно зажигать очередную сигарету.
Наступило долгое, неприятное молчание.
– А как насчет той истории, которую нам рассказал доктор Шелли? Насчет больного брата-близнеца, призвания, служения…
– А так, что это история, рассказанная Колвеником доктору Шелли. И не более того. Должен вам сказать, что Колвеник лгал, как дышал – легко и естественно. У доктора Шелли, в свою очередь, было много причин просто поверить ему, не вдаваясь в детали. Все финансирование клиники, до последней песеты, зависело от Колвеника, Шелли фактически был его служащим на окладе. В должности экзекутора…
– Позвольте, так брат-близнец и все остальное – это что, выдумка? – я был растерян. – А как же альбом с фотографиями больных с деформациями тела, научные изыскания…
– Лично я полагаю, что как раз брат-близнец существовал, – резко сказал Флориан.
– Так, значит?..
– Я думаю, что больной ребенок – это он сам.
– Простите, инспектор, но ведь…
– Я, дочка, сто лет как не инспектор.
– Но Виктором-то вы остались? Так вот, Виктор…
Я впервые увидел на лице отставного полицейского открытую, ясную улыбку. Она его очень красила.
– Так что за вопрос?
– Вы сказали, что при расследовании злоупотреблений и мошенничества на Вело-Граннель обнаружилось «кое-что еще»…
– Да. Сначала мы приняли те странные счета за обычные уловки при уходе от налогов: они затерялись среди многочисленных перечислений госпиталям, приютам и прочей как бы благотворительности. Я говорю о приличных суммах, регулярно переводимых с Вело-Граннель в городские морги и большие клиники с правом проведения аутопсии. Один мой подчиненный собрал целую пачку таких документов с подписью Шелли.
– Колвеник… он что, торговал трупами? – тихо проговорила Марина.
– Наоборот. Он их покупал. Десятками. В основном тела бомжей, бродяг, жертв суицида, одиноких стариков… таких очень много – невостребованных, никому не нужных. В городе, знаете ли, их многие тысячи, этих несчастных, забытых богом и людьми.
Радио бормотало в отдалении, словно эхо нашего разговора.
– А что же Колвеник делал с этими телами?
– Вот этого-то мы и не смогли узнать. Как ни стремились.
– Но ведь вы кое-что предполагали на этот счет, а, Виктор? – так же тихо спросила Марина.
– Нет!
Для полицейского, пусть отставного, врал он плохо. Неумело. Марина не настаивала. Инспектор как-то сдал, постарел на глазах, помрачнел. Словно тени прошлого встали вокруг него, легли на лицо, отняли энергию и напор. Сигарета слегка дрожала в его руке и словно сопротивлялась его тяжелым, медленным движениям.
– Что до оранжереи, куда вы попали… послушайте меня… не возвращайтесь туда больше никогда. Забудьте все, что видели. Вместе с альбомом, могилой, черной бабочкой, дамой, розой, Сентисом, Шелли. Забудьте и меня, дети, я просто старый маразматик, который сам не знает, что несет. Пока ваши собственные жизни не разрушены… хватит уже этого ужаса. Не троньте. Оставьте.
Он подозвал официанта, оплатил счет и строго сказал нам:
– Обещайте, что послушаетесь меня.
Я подумал, что уже поздно. Теперь не мы решали, оставить ли нам это дело, а оно решало, оставлять нас в покое или нет. После событий предыдущей ночи его добрые советы звучали как бессильные заклинания. Как утешительное вранье для маленьких детей.
– Мы не намерены рисковать жизнью, – мягко ответила Марина за нас обоих.
– Дорога в ад вымощена именно благими намерениями, – отвечал ей Флориан.
Инспектор проводил нас до вагончика фуникулера и дал телефон бара.
– Там меня хорошо знают. Звоните, если что, передадут. Звоните в любое время суток. Ману, хозяин бара, страдает хронической бессонницей, по ночам смотрит фильмы Би-би-си – все надеется выучить таким образом английский. Вы его не побеспокоите…
– Спасибо, Виктор. Просто слов не находим для благодарности…
– Не благодарите, а держитесь подальше от этого осиного гнезда.
Двери вагончика открылись. Мы попрощались.
– А вы, Виктор? Что будете делать вы? – спросила Марина.
– Что и все старики: перебирать воспоминания и спрашивать себя, как же так вышло, что жизнь пошла наперекосяк. Ну, все. Счастливо вам.
Мы уселись у окна, двери закрылись, вагончик заскользил вниз. Вечерело. Огни Вальвидреры медленно уплывали назад, а неподвижная фигурка Флориана на платформе становилась все меньше, пока не исчезла из виду.
Герман приготовил к нашему приходу итальянское блюдо с названием, звучавшим, как оперная ария. Мы уютно поужинали в кухне, слушая отчет Германа о его шахматной схватке с непобедимым иезуитом, очередной раз взявшим верх. Марина была непривычно молчалива, предоставив нам с Германом беседовать вдвоем. Я даже спросил себя, не сделал ли я чего-нибудь, что ее обидело. Герман предложил мне партию в шахматы.
– Я бы с радостью, но сегодня моя очередь мыть посуду, – объяснил я.
– Что ты, я сама охотно… – начала слабо возражать Марина у меня за спиной.
– Нет-нет, моя очередь…
Герман в соседней комнате расставлял фигуры на доске. Марина, не глядя на меня, уже мыла тарелки.
– Позволь, я помогу.
– Пойди лучше к нему. Герману нравится играть с тобой.
– Оскар, я готов, – раздался его голос из гостиной.
Я посмотрел на Марину. При свечах она показалась мне бледной и усталой.
– Ты хорошо себя чувствуешь?
Оглянувшись, она улыбнулась мне. Порой, когда она улыбалась вот так, я казался себе бестолковым и маленьким.
– Иди, иди. И дай ему выиграть.
– О, это нетрудно.
Я послушно оставил ее одну. Перешел в гостиную, к ее отцу. И сел за стол при свете хрустального канделябра, всей душой желая помочь Герману провести ближайший час так приятно, как это возможно для человека. Ибо этого хотела его любящая дочь.
– Ваш ход, Оскар.
Я его делаю. Он слегка кашляет.
– Должен напомнить вам, Оскар, что пешки так не ходят.
– Простите.
– Ничего, ничего. Это у вас от энтузиазма. Не поверите, до чего же я вам завидую. Молодость – капризная возлюбленная: пока учишься ее ценить, она уходит к другому и, заметьте, никогда не возвраща… ах! Что же это! Вы хотите сказать, я потерял пешку?
Уже после полуночи меня разбудил какой-то звук. Дом был погружен в темноту. Я сел в постели и снова прислушался. Кашель – глухой, надрывный, где-то внизу. Охваченный беспокойством, я вышел в коридор: звук шел с нижнего этажа. Дверь в комнату Марины открыта, ее кровать пуста. Меня кольнул страх.