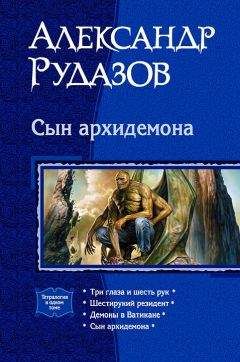Инесса Ципоркина - Меня зовут Дамело. Книга 1
Кечуа любил поздние завтраки на своем чердаке, залитом солнцем, такие редкие, неспешные, полные неги. Жаль, что насладиться напоследок нервов не хватило. Впереди для себя и подруг Дамело видел не сырую темень небытия, а самый настоящий ад — три лучших места в партере.
Жизнь его окончится в тот самый момент, когда Сапа Инка восстанет на своего божественного предка и попытается сорвать церемонию нисхождения Мамы Килья в средний мир. И конечно, ни один загробный судья не поверит: индеец не ведал, где он, с кем он, против кого он. Потомок Инти не мог не знать, что он в храме Солнца, у жертвенника, крещеного кровью, а не в дешевом боулинге, где за три страйка[86] наливают стакан халявного пива. Последыш царского рода не спутал бы Саввушку Едемского с золотым богом, как не спутал бы поддельный тотемный столб с настоящим, даже будь фальшивка правильно кривовата, посечена осадками и грозна на вид — она всего лишь фальшивка. Лубок для туристов.
В овражисто-холмистое, бесприютное, открытое всем ветрам Ясенево четверка богоборцев отправляется без понтов и романтики, на такси. В машине девицы жмутся к Дамело, их руки ползают у индейца под свитером, комкают футболку, оттягивают ремень джинсов, два блестящих, жарких рта наперебой вылизывают губы Дамело, пока хладнокровный столичный таксист и Димми, сразу занявший пассажирское место, усиленно делают вид, будто ничего не происходит.
Кечуа, не сопротивляясь, поворачивает лицо вправо, принимая поцелуй одной, и скашивает глаза влево, ловя улыбку другой. Сталкер и Маркиза переигрывают, пережимают. Чтобы обмануть бдительность Инти, совершенно незачем сходить с ума, седлая бедра его потомка в такси, елозя языками у Сапа Инки в ушах, создавая стереофонический эффект мокрого хлюпанья. Они договаривались всего-навсего сделать вид, будто едут в клуб, не представляя, кто их там ждет. ЧТО ждет их, одуревших от праздничного драйва. А устраивать оргию на заднем сиденье — перебор. Спутницы Дамело похожи не на проституток, ублажающих размякшего клиента, не на клубных девочек, едущих в модное местечко повеселиться за чужой счет, нет, они похожи на две ипостаси Лилит, вышедших замуж за Самаэля и Асмодея, за две ипостаси сатаны. И приступивших к главному занятию медового месяца, не доезжая до мотеля.
А, все равно. Пусть наиграются всласть перед тем, как подохнуть. Пусть померяются друг с другом, раз уж помериться со своей главной игрушкой женщинам Тласольтеотль явно и бесповоротно нечем.
Там, куда они едут, нет ничего, кроме ветра и солнца. Ледяные ясеневские поля, грязно-белые, в потеках трасс холмы, голые перелески, пятна тел и машин на снегу — зимний московский Брейгель. Диммило не глядя сует водителю несколько купюр и пулей вылетает из оскверненного такси, а Дамело и его дамы еще долго выбираются, вываливаются из задней дверцы сплетенным клубком конечностей, шарфов, спутавших шеи попарно, сползших с плеч курток — и, разумеется, флюидов похоти, почти материальных в морозном воздухе. Видавший и не такое водила газует, не дожидаясь надоевшего «Спасибо, шеф!» Впрочем, Диммило настолько зол, что ни благодарить, ни извиняться не настроен, а язык Дамело по-прежнему занят.
Охранников клуба ничуть не удивляет плечистый брюнет с повисшими на нем девками и очкарик с таким лицом, точно все сласти на свете закончились и никто никогда не напечет новых: не всегда приобретенное на двоих делится поровну — и крыть, кроме мата, нечем. Куда больше, чем Сапа Инка и его свита, их внимание привлекает блондинка, оранжевая от автозагара в зоне декольте, но с синеватым от холода голым животом — прогнувшись в спине и округлив рот сочным «о», она красит губы перед зеркалом фойе. Со свойственным охране меланхолическим видом, свидетельством вечной готовности к драке, вышибалы кивают пришедшим, чтобы ограбить бога в храме его: проходите.
Словом, все обычно до оскомины.
Оскомина пропадает, как только открывается дверь боулинга. Теперь уже можно смело сказать — бывшего боулинга. С балок бородами свисает то ли мох, то ли паутина, в натекших неизвестно откуда лужах зеленым слоевищем плавает риччия,[87] резные пилоны «под ацтекскую старину» оплетают стебли альзатеи.[88] Зелень прет вверх на глазах, растопырив кожистые листья — притом, что за стенами храма Солнца ледяные ветра несут поземку в лицо прохожим.
Но там и не сияет Инти, согревая все вокруг одной улыбкой, одним взмахом ресниц.
Рядом с божественным предком Сапа Инка тускнеет, выцветает, сливаясь с фоном. Хотя фон ярче яркого: сваленные грудой столы и стулья образуют пирамиду, укрытую цветущим ковром лиан, по непривычно пустому залу потерянно бродят те, кто пришел провести скучноватый денек в боулинге, а попал на свадьбу богов, вдоль стен натыканы золотые фигурки, то ли дети, то ли карлики со злыми личиками — и кажется, будто они провожают нечаянных гостей оценивающими взглядами.
Жених и невеста стоят у подножия пирамиды, золотой он и белая она, сияя так, что при взгляде на них хочется плакать от света и боли, точно рождаясь заново. Перед глазами расплывается ослепительное пятно и оно, это пятно, смотрит на Дамело с нежностью и укоризной, словно родитель, нет, родитель не может так смотреть, то взгляд любви, вмещающей в себя всё, всё, все виды душевной теплоты, от согревающей до обжигающей, и нет сил отказаться от божественного тепла, даже если придется сгореть под палящим взором самого прекрасного из богов. Кечуа не в силах сделать ни шагу по направлению к Инти, ни шагу по направлению к его жене, сестре и жертве. Тихая, незаметная, беспощадная власть бога Солнца выжгла из него волю и разум. Индеец никогда не чувствовал себя таким… разморенным и мнительно-влюбленным. Ему хочется броситься к ногам золотого бога и просить прощения за содеянное и не содеянное, а потом принять казнь на вершине пирамиды, которая не что иное, как груда мебельной рухляди, превращенная в алтарь силой неземного величия.
Дамело зажмуривается, собираясь с духом. Да вот беда-то — весь его дух там, у подножия цветущего холма, из которого торчат гнутые ножки и подлокотники кресел. Без Инти в душе он легче пустой сумки, утроба полая — и одновременно неподъемней валуна, вросшего в землю. Наверное, так чувствует себя ребенок, впервые разочаровавший своих отца и мать. Индеец не помнит, как это было впервые — он вообще мало что помнит о детстве. Тем мучительнее детская боль ранит взрослое эго. Дамело кажется: за полминуты он потерял все. Или это его потеряли посреди бесприютного мира, огромного, точно супермаркет, где никому нет до него дела — и не будет.