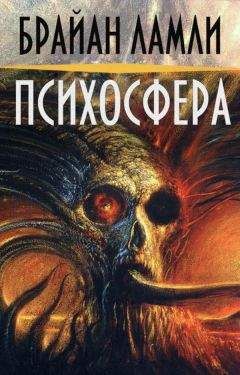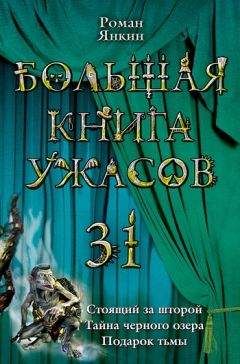Брайан Ламли - Психомех
— Томас, я.., не знаю, что сказать.
— Ничего не говори. Мы заключили соглашение, и я выполнил мою часть сделки.
— Временами я все еще думаю, что вы — сумасшедший. Все эти деньги...
Смешок Шредера походил на помехи на линии.
— Какая мне теперь польза от денег, Ричард? И ведь все мои деньги будут ждать меня — нас! И, Ричард, если бы ты знал, сколько их, осевших во множестве мест, и доходы от них год от года все растут. Однажды — о, это произойдет! — мы окажемся среди самых богатых людей ми. — .ра..! — он закашлялся.
— Томас! Ради Бога, не надо! — Гаррисон сжал трубку и согнулся. — Томас, я что-то чувствую внутри себя. Вашу боль!
— Ах! — голос в трубке задохнулся. — Это не специально. Я должен.., убедиться, что это не.., случится снова. Но в любом случае она будет недолгой.
— Томас, — Гаррисон почувствовал, что боль медленно угасает, — почему вы должны всегда...
— Я знаю, мой мальчик, прости меня, но... Послушай, Ричард. Сейчас мне надо идти. Но когда придет время, я буду не в состоянии контролировать ее, Я попытаюсь, но... Надеюсь, она не будет слишком сильной. Ну...
— Нет, подождите! — крикнул Гаррисон. — Послушайте, мы разделим ее. Я имею в виду боль, последнюю боль. Я сильный, я смогу выдержать. Не сдерживайте ее, Томас. Когда придет время, я приму на себя половину.
— Ричард, о, Ричард... — грустный шепот еле слышался, и Гаррисон, как наяву, живо увидел своего собеседника, покачивающего головой. — Как ты глуп! Знаешь ли ты, каково умирать?
— Нет, не знаю. Но я знаю, что не хочу, чтобы вы выстрадали всю эту боль один.
— Я не ошибся в тебе, Ричард, если здесь вообще что-нибудь зависело от меня... Еще одно. Не приезжай на кремацию. Там ничего не будет для тебя. И, скорее всего, это будет опасно. Ну, я не прощаюсь, Ричард. Давай просто скажем “до встречи”, да?
Затем на другом конце раздался щелчок — повесили трубку, и мгновением позже — продолжительное и прерывистое заикание прерванной связи. Для Гаррисона этот звук значил гораздо больше, чем окончание еще одного телефонного разговора...
Боль пришла ночью через четыре дня. Был конец ноября, вторник, дата, которая навсегда отпечатается в сознании Гаррисона, потому что теперь он, наконец, узнал, каково умирать или, по крайней мере, какой была смерть Томаса Шредера.
Боль заявила о себе в предыдущие воскресенье и понедельник — жжение в груди, кишечнике и пояснице словно некий страшный яд или кислота разъедали его изнутри. И он знал, что эти боли нельзя было устранить при помощи таблеток или уколов. Какой смысл накачивать лекарствами его, когда болело не его тело? Это болело тело Томаса Шредера.
До той ночи — во вторник — боль была терпимой. Она приходила повторяющимися спазмами и уходила, когда, как догадывался Гаррисон, доктора давали Шредеру обезболивающее , но во вторник ночью...
К отбою он выглядел таким больным, что матрона, заметившая, что он плохо спит, прописала ему снотворное и порекомендовала раньше лечь спать. Гаррисон, ослабевший от приступов и жаждавший хоть ненадолго забыться, довольно легко уступил. К десяти вечера он уже спал, а к полуночи у него началась агония. Разбуженный непрерывно усиливающейся болью, в полубессознательном состоянии и с одурманенной лекарством головой он был так слаб, что даже не мог разрыдаться. Он мог только лежать, обхватив себя руками и потея. Его постель, казалось, промокла насквозь.
Затем, около часа ночи, он окончательно пришел в себя и сел прямо. Внутренним зрением он увидел говорящего Шредера.
Ричард, вот оно. Я не могу больше сдерживать боль. Слишком слаб. То, что ты испытал до этого, ничто по сравнению с тем, что тебе предстоит пережить теперь. Извини. Черт бы побрал этих докторов. Я думал, что они мои..., но.., у них этика. Они не прикончат меня. И — да поможет мне Бог — я не знаю, как там будет, в том, другом, месте, и я боюсь его!
Затем...
Слепящий свет в сознании Гаррисона, невероятная агония в его теле. Вся его сущность была разорвана болью!.
Он попытался заплакать, но не смог. Боль заморозила слезы в горле, превращая плач в бульканье. Он силился вдохнуть воздух, но его расширяющиеся легкие, казалось, давили на органы, которые и без того горели в собственном аду. В приливе жестокой боли он корчился, извивался в судорогах и бился головой о стену. Он хватался за живот и грудь, чувствовал, как из каждой его поры липким потоком текут кровь и слезы, смешанные с потом.
Он не мог кричать, потому что судорожно хватал воздух и задыхался от боли, которую тот приносил; он не мог смягчить приступы агонии, потому что они были не его, а того, другого, переселяющиеся в его тело из обезумевшего разума Томаса Шредера.
К двум часам ночи Гаррисон понял, что тоже умрет. Он дважды на мгновение терял сознание и приходил в себя, казалось, только для того, чтобы его захлестнули свежие волны агонии. Его вырвало через силу на пол, и от желчи поднимался пар. В ней была кровь. Кровь текла из носа, из прокушенных губ, из глубоких царапин, которые он оставлял на груди и животе.
— Томас! — кричал он в безмолвной агонии. — Томас, ты и меня убиваешь тоже!
Никакого ответа, кроме нового прилива муки — накатившегося режущего набухания нервных окончаний, растворенных в медном купоросе, крик души, снова и снова отзывающийся эхом в его мозгу. Приступы Гаррисона стали такими жестокими, что и без того согнутый почти пополам он слетел с кровати и бился на полу, как червяк на крючке.
— Умирай, ты, ублюдок, умирай! — кричал он в телепатическую пустоту между их сознаниями. — Умирай, ради Бога! Умирай, Томас, умирай!
Кислота каплями падала ему в глаза, уши, мозг. Огонь лизал его легкие, сердце, самую его душу, которая угрожала покинуть тело. Кровь струилась из носа, капала из сведенного судорогой рта.
— Будь ты проклят, Томас. Если ты не умрешь, тогда умру я!
Он бился головой об пол снова и снова. Господи, ему не хватало сил размозжить себе голову! Он нашел бутылку, упавшую с тумбочки и разбившуюся при падении. Острый край отбитого горлышка порезал ему руку, когда Гаррисон подносил его к горлу. Одно стремительное движение этого стеклянного кинжала, один быстрый удар, которого он даже не почувствует в потоке мучений, истязающих его...
...Дверь распахнулась, и молодой психотерапевт, дежуривший ночью, вбежал в палату. Последнюю пару часов он прогуливался, болтая с медсестрой по садику центра и, в сущности, почти добился желаемого. Он уже привел ее на травку, в уютную тень куста, когда из комнаты Гаррисона донесся невероятно сильный грохот. Оттуда всю ночь доносился шум, но Гаррисон был еще тот парень и, наверное, развлекался с какой-нибудь своей медсестрой — так думал дежурный врач, но грохот заставил его отказаться от этой мысли. Грохот и сдавленные, из последних сил крики Гаррисона: “Умри.., умри.., умри.., умри!"