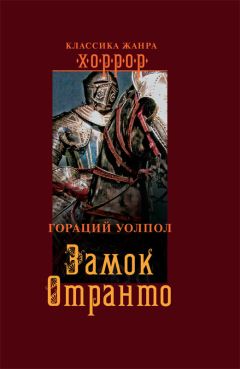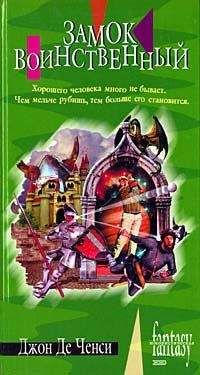Замок Отранто и другие истории - Уолпол Хорас (Гораций)
– Это истинная правда, – подтвердил Манфред, – а на титул, которым вы меня величаете, отверженец притязать не вправе… Но это не заслуживает внимания, говорите дальше.
Джером покраснел от допущенной им неловкости, но продолжал:
– Целых три месяца неблагоприятный ветер удерживал Альфонсо в Сицилии. Здесь он полюбил прекрасную деву по имени Виктория. Он был слишком благочестив, чтобы склонять ее к запретным утехам. Они обвенчались. Однако, считая эту любовь несовместимой с данным им обетом сражаться во имя святой цели, он решил скрыть их брак до возвращения из Крестового похода, когда он намеревался увезти Викторию из Сицилии и открыто объявить ее своей законной женой. Он оставил ее в ожидании ребенка. Во время его отсутствия она разрешилась дочерью; но едва успела она в муках родить, как до нее дошло горестное известие, что Альфонсо умер и что ему наследует Рикардо. Что было делать одинокой, беззащитной женщине? Какой вес имело бы ее свидетельство? Но все же, господин, у меня есть подлинная грамота…
– Она не нужна, – сказал Манфред, – ужасы последних дней, видение, явившееся нам, – все это подтверждает твои заявления лучше, чем тысяча пергаментов. Смерть Матильды и мое изгнание…
– Успокойтесь, господин мой, – сказала Ипполита, – этот святой человек не хотел напоминать вам о ваших несчастьях.
Джером продолжал:
– Я миную подробности. Когда дочь Виктории стала взрослой девушкой, она была отдана мне в жены. Виктория умерла, и тайна осталась сокрытой в моей груди. Что произошло впоследствии, вы знаете из рассказа Теодора.
Монах умолк. Все, кто присутствовал при этом, в безутешной тоске побрели в сохранившуюся часть замка. Наутро Манфред подписал отречение с ведома и одобрения Ипполиты, и оба они приняли постриг в соседних монастырях. Фредерик предложил руку своей дочери новому князю, и Ипполита, нежно любившая Изабеллу, горячо высказалась за этот брак. Но горе Теодора было слишком свежо, чтобы он мог помыслить о новой любви, и лишь после многих бесед с Изабеллой о его дорогой Матильде он убедился, что не обретет счастья иначе как в обществе той, с которой он всегда сможет предаваться грусти, овладевшей его душой.
Маддалена
Я всегда относился с благоговейным трепетом к тому таинственному и непостижимому, окутанному жутковатым полумраком периоду европейской истории, который принято называть «темными веками». Умы целых наций, казалось, сдались под натиском бурных, саморазрушительных потрясений, которым они так долго подвергались (пока гунны, вандалы и готты не распустили над побежденной Европой свои варварские флаги), и погрузились в долгий, темный, мрачный, беспробудный и беспокойный сон. Их слабые и неизменно отчаянные усилия против тьмы скорее походили на полусознательные и безуспешные попытки очнуться от кошмара. Даже собственный интеллект представлялся им, а нам с вами и подавно, лишь полузабытым сновидением. И все же дух благородства и самопожертвования не был окончательно сломлен: отважные рыцари и прекрасные дамы – а с ними замки, преданные стражи и вооруженные вассалы – тогда еще не перевелись. Самые жестокие сражения стихали под сверкающим взглядом прелестных глаз, и самые суровые сердца оттаивали и воскресали от нежного прикосновения женской любви. То были времена Петрарки и Лауры, пылкого огня музы Ариосто, призрачной и загадочной вдохновительницы поэта-патриота Данте. Они и многие им подобные предстают перед нашим мысленным взором в ореоле, смягчающем мрачность той далекой романтичной эпохи и придающем ей очарование. Они помогают нам заметить льющийся оттуда свет и скрадывают присущие ей отвратительные стороны.
Несколько лет назад в окрестностях Пизы я услышал легенду из тех времен – таких мрачных и вместе с тем вызывающих ностальгию. Историю эту стоит рассказать уже потому, что она принадлежит к той смутной эпохе.
Всем известно – или, по крайней мере, должно быть известно, – в каком плачевном состоянии пребывала Пиза в конце пятнадцатого века. Волею судеб этот маленький гордый народ едва не пал жертвой честолюбивых помыслов и беспочвенной мести флорентийцев. От великой республики остались лишь слабая искра свободолюбия и независимый дух, все еще попадавшиеся среди обнищавших итальянских поселений. Не будь того духа – вместе с непоколебимой ненавистью к поработителям, угрожавшим его свободе, – город, а с ним и народ навеки исчезли бы с лица земли.
Эта давно копившаяся и долго сдерживаемая ненависть была готова вот-вот вырваться наружу. Причем на улицах Пизы попадались не только флорентийцы, но и французы, которые осели там по милости Неаполя и ко времени нашей истории вконец озлобились, – таким было то разрозненное, раздираемое противоречиями общество, где никто никому не доверял. Тем не менее все свято соблюдали приличия. Итак, в канун описываемых нами событий по улицам Пизы разгуливало немало флорентийцев, а пизанцев можно было встретить во Флоренции, что нередко приводило к столкновениям. Взгляды угрожающе скрещивались, возвещая об открытой вражде, и все же ни одна из сторон не осмеливалась напасть первой. Каждый едва сдерживался, чтобы не плюнуть другому в лицо и не обозвать во всеуслышание мерзавцем, однако, благодаря утвердившемуся за много лет этикету, до настоящих стычек дело обычно не доходило, хотя и такое нет-нет да и случалось.
Как всегда в подобных ситуациях, прекрасный пол быстро подхватывал и подпитывал воинственный дух своих покровителей. Увядающие матроны и незамужние девицы имели свои собственные четко выраженные национальные предпочтения, а с ними и сопутствующую неприязнь. Впрочем, никакие запреты не могли воспрепятствовать возникновению нежных чувств между молодыми людьми враждующих лагерей. Порой страсти разгорались так пылко, что граничили с безумием, – в этом смысле ничего под солнцем Италии с тех пор не изменилось:
Там, где бушует необузданная страсть,
Спалит сознание дотла безумства власть.
Жил в то время в Пизе богатый флорентийский купец по имени Джакопо. Он давно отошел от дел, спокойно доживая дни в довольстве и достатке. В Пизе он обосновался не столько из соображений практичности, сколько скорбя по былой любви, память о которой так и не затерлась в суете деловой жизни. Пиза была родиной его жены – на этой сцене разыгрывалась история его первой и единственной страсти, и там же опустился занавес, когда он овдовел, позволив пустоте навсегда поселиться в сердце. Город стал для Джакопо волшебным дворцом света и тьмы, местом притягательным и в то же время отталкивающим, расстаться с которым просто не хватало сил. Как истерзанный дух поруганной девицы, что, согласно древнему преданию, никогда не покидал места злодеяния, так и Джакопо цеплялся за свои воспоминания. Лишь тот, кто познал восторг ранней, а потому самой неистовой любви, поймет чувства, привязывающие его к месту первых упоительных мгновений, пусть даже потускневших и обернувшихся горечью утраты.
Жена его умерла спустя чуть больше года после свадьбы и оставила ему дочь – единственный залог рано оборвавшейся любви. Какой только заботой не окружил дитя безутешный отец, каких только средств не жалел! Стоит ли удивляться, что когда Маддалена повзрослела, во всей Пизе не было девушки более совершенной, более пригожей и великодушной. Своей красотой, умом и нравом она пошла в мать, отчего Джакопо, который в дочери и так души не чаял, привязался к ней еще сильнее. Ослепленный отцовской любовью, он ни на миг не спускал с нее глаз и не разрешал ей слишком далеко от себя отдаляться. Маддалена редко появлялась на людях, что было несвойственно молодым людям ее возраста. Ее имя почти никогда не значилось в списках приглашенных на танцы, свадьбы и прочие празднества, а когда ей все же приходилось сопровождать отца, то она скорее оставалась зрителем, нежели участником всеобщего веселья, ибо Джакопо, живший в распутные времена и понимавший опасности, подстерегающие юную и прекрасную деву, страшился за дочь и предпочитал держать ее подальше от мирских соблазнов.