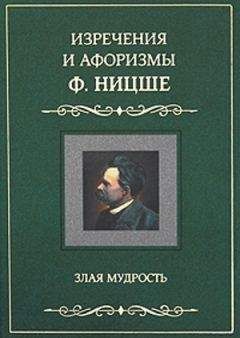Сергей Софрин - Проект «Асгард»
Он думал о Городе в женском роде, всюду встречая рюшечки, бретелечки, шпилечки и резиночки: глянцевых, отутюженных хиппанов, скрипящих умопомрачительно дорогой «косой кожей» рокеров, манерных уличных музыкантов, хронически вкрадчиво улыбающихся менеджеров среднего звена. Мегаполис пах пудрой, духами и ванилью, как пахнут во всем мире фешенебельные ночные заведения с рулеткой, стриптизом и коктейлями. Фирменными коктейлями, которые ловкие бармены умело снабжают приятными волшебными ингредиентами: опийным сиропом расслабленного самолюбования, дурманным экстрактом элитарной сопричастности к розовому гламуру, кокаиновой пыльцой счастливого возбуждения.
Город поглупел лицом и заметно сдал внутренним содержанием. Будто переделанный в блошиный рынок музей изящных искусств, куда со всего мира свезли никем невостребованные чугунное и бронзовое литье, дизайнерские провальные аляповатости, накладные ногти, разнообразные световые табло, стразы, лишнюю тротуарную плитку, турникеты, пластиковую посуду и чучела телепузиков в натуральную величину.
Теперь, стоя на автобусной остановке, Марат с иронией вспоминал пережитое разочарование: «Никогда не возвращайся туда, где был когда-то счастлив», — золотые слова. Но не возвращаться не получится. Нет у него иного выхода. Придется смириться с неизбежным: все его шансы на воскрешение здесь. Он уверен. Тут находится отправная точка фатальных событий, приведших Марата к краю невообразимой пропасти. Семь лет назад некто сломал его жизнь, превратив ее в гонимый ветром столбик крутящейся пыли. В несущий хаос торнадо. Семь лет Марат дожидался этого дня, этой весны, пахнущего мороженым и пивом вокзала, шума подземки, политого водой из поливальной машины зернистого асфальта, нетерпеливых гудков таксомоторов, табачных киосков и этой автобусной остановки, через дорогу от которой, за выкрашенной суриком стеной, Марат видел сейчас верхушки обновленных клейкой молодой листвой деревьев. Прозрачные тени от их крон еле заметно шевелились дымчатыми пятнами на земле, перебегали проезжую часть и таяли в траве газона.
Вдоль стены, несмотря на ранний утренний час, плотными рядами располагались уличные торговцы.
Опрятные бабульки с корзинами искусственных цветов, ведерками живых нарциссов и тюльпанов, яркими веночками и модными сейчас пластиковыми фонариками для восковых свечей, изображая лицами смиренную скорбь, завтракали бутербродами, запивая их чаем из термосов. Горячее питье пахло корицей и коньяком, недвусмысленно определяя статус старушек и указывая на их особое положение в иерархии здешнего делового люда. Как старые валенки, архимандритская борода и ветхая байковая рубашонка обыкновенно удостоверяют церковного старосту.
Нарядные кареглазые молдаванки раскладывали на столиках грозди винограда, яблоки, помидоры, миниатюрные распятия, карманные псалтыри, расставляли бутылочки с лампадным маслом и «Кагором». Плетеные «паутинкой» кофточки смуглолицых барышень светились на местах наибольшего натяжения кремовым нижним бельем и загорелыми волнующими невинностями, вызывающе жизнерадостно диссонирующими с соборным настроением окружающих аборигенов.
Рафинированные субтильные юноши закрепляли стенды с CD-дисками духовной музыки, крестились в сторону часовни и недружелюбно зыркали на заезжих молдаванок.
Несколько по-деревенски непосредственных дедков сооружали из куска тепличной пленки торговый павильон. Тот угрожающе кренился во все стороны сразу, норовя, рухнув, смешать ассортимент прилегающих к нему коммерческих лотков.
Долговязая бледная девушка в черном платочке и черном же рабочем халате, держа в вытянутой руке здоровенную алюминиевую кружку, призывала к каким-то пожертвованиям. У ее ног стояла подпертая палкой большая фотография царя Николая II с семьей. Самодержец, угрюмо усмехаясь, насуплено глядел с пожелтевшей картонки в пустоту, будто устав от изнуряющего ежедневного принудительного попрошайничества, на которое его обрекла злая судьбина и коллективное попустительство соотечественников.
Слева от оседлых коробейников, у кованых, распахнутых настежь ворот дремал ничейный питбуль. Казалось, он охраняет вход. Дорогу к крематорию и колумбариям. Трехсотметровый отрезок, связующий мир живых с миром мертвых. Светскую суету с монастырским уединением.
«Зеленой милей Шаолиня»[2] называл эту разрезающую поле газонной травы темную ленту Славян.
— Истинный вектор Бодхидхармы[3], ведущий к воссоединению с Великой Пустотой, отныне нами установлен, друзья. — Говорил он. — По нему Бородатый Варвар[4] вернулся в джунгли Индии, дабы покататься там верхом на тигре. Найденная в его могиле единственная сандалия — намек ученикам. Совершеннейшая по своей простоте и очевидности проповедь о бессмертии. Первое и последнее евангелие от пророка грядущего царствия непреходящей человеколюбивой вечности.
— Чаньские[5] наставления хирурга из юго-восточного округа. Трактат о Великой Пустоте. Страница шестьдесят девять. Все туманно, сложно, неудобоваримо и помпезно до безобразия. — Вторил ему Влад. — А знаете ли Вы, уважаемый, что не войти в слияние с Абсолютом существу, утратившему телесную целостность? Закрыты для него врата заветные. Удаляя недрогнувшей рукой аппендикс, черный лекарь в белом халате обрекает доверчивого пациента на новое телесное тленное воплощение. Благодаря чему несчастный проживет еще одну жизнь дятлом, бабуином или земляным червем.
— Жизнь — есть смерть. — Патриархально-поучительно вещал Славян. — Долгое, мучительное самурайское харакири, производимое ритуальным мечем социальных условностей. Все мы с младых ногтей служим некоему таинственному безымянному сюзерену, чьи настоящие цели никому до конца не понятны. Возможно, быть дятлом — не такая уж плохая участь. Дятел — всегда только дятел. Ему незачем делаться программистом или бухгалтером. В этом смысле — новое воплощение в оперенном теле птицы дает бывшему бухгалтеру возможность прожить жизнь по-настоящему.
— Медитативно долбая клювом старую осину, — смеясь, подытоживал Влад, — и выковыривая из трухлявой древесины себе на пропитание жирных мучнистых червей. Глубоко осмысленное чудо вселенского коловращения свободной материи!..
Марат обычно не принимал участия в их шутливых пикировках. Он молчал, слушал и размышлял. О чем угодно — только не о «Зеленой миле Шаолиня». Смерть казалась Марату отдаленной героико-романтической перспективой, заоблачным ледяным перевалом, маршрут к которому даже еще не проложен. Рубежом, где каждый в свое время оставляет принесенный с собой вымпел и подводит некий итог. Да и в вопросах восточной культуры его друзья откровенно блуждали, часто сваливая религию, философию, мифы и суеверия в одну кучу, из которой выхватывали мозаичные фрагменты, пытаясь сложить нечто похожее на красочное самобытное панно. Поэтому молчание Марата имело потаенный аспект: он одновременно не мешал их устному творчеству и параллельно ограждал себя от необходимости вести просветительскую работу, не имевшую в данном случае никакого смысла.