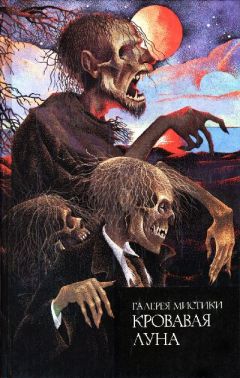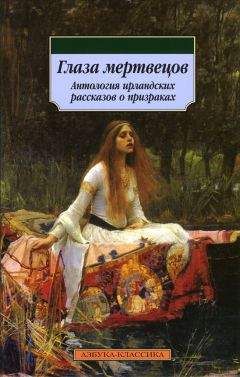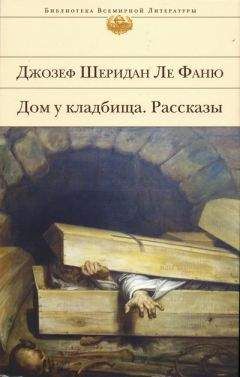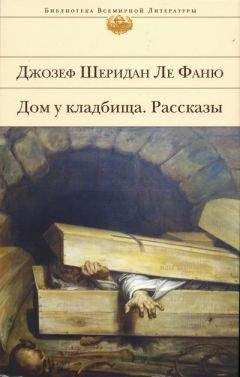Джозеф Ле Фаню - Тайна гостиницы Парящий Дракон
— Где я могу найти месье Пикара?
— Ушел к точильщику выправить бритвы. Но не думаю, что он что-нибудь расскажет.
Моя золотая монета принесла скудный урожай. Похоже, слуга говорил правду; владей этот пройдоха хоть одной семейной тайной, он с удовольствием выдал бы ее. Я вежливо откланялся и снова поднялся в комнату.
Я вызвал слугу. Он приехал со мной из Англии, однако по рождению был француз — шустрый парень, он знал все ходы и выходы и мгновенно находил с соотечественниками общий язык.
— Сен-Клер, запри дверь и подойди сюда. Мне необходимо узнать кое-что б знатных господах, занимающих комнаты под моей. Вот тебе пятнадцать франков; разыщи слуг, которым мы помогали в пути, угости их ужином, а по возвращении расскажешь мне все, что знают они. Я уже беседовал с одним из них — он ничего не мог сказать. Другой — забыл, как его зовут — лакей нашего дворянина. Вот его можно попытать как следует. Меня интересует, разумеется, высокородный граф, а не его молодая спутница, понятно? Выспроси все до последней мелочи и передай мне слово в слово. Понял? Беги!
Такое поручение как нельзя лучше соответствовало характеру и наклонностям моего бесценного Сен-Клера. Я давно привык в обращении с ним придерживаться того фамильярного тона, какой в старинных французских комедиях допускается между господином и слугой. Не сомневаюсь, что втайне он посмеивался надо мной, однако держался вежливо и почтительно.
Многозначительно подмигнув и пожав плечами, он удалился. Я выглянул в окно и увидел, как он с невероятной быстротой пробирается по двору. Вскоре он исчез среди экипажей.
Глава 3.
Любовь и смерть всегда вдвоем
Когда день клонится к закату, а человеку печально и одиноко, когда его снедает лихорадочное нетерпение, когда минутная стрелка ползет медленно, как часовая, а часовая вообще застывает на месте, когда истомленный скукой бедолага зевает, барабанит пальцами по подоконнику, расплющивает нос о стекло, насвистывает ненавистные песенки, короче говоря, не знает, куда себя деть, остается лишь сожалеть, что строгие светские правила не позволяют устраивать роскошный обед из трех блюд более одного раза в день.
Однако в те дни, к которым относится мое повествование, ужин все еще считался весьма существенной трапезой. К счастью, его время приближалось. Однако надо было чем-то занять себя на оставшиеся три четверти часа.
Я взял с собой в дорогу двери непритязательные книжки, однако сейчас у меня не было настроения читать. Нераскрытый роман валялся на диване рядом с пледом и тростью; я бы и бровью не повел, если бы герой вместе с героиней утонули в огромной бочке с водой, что стояла под моим окном.
Я пару раз прошелся по комнате, вздохнул, посмотрел в зеркало, поправил пышный галстук, завязанный по последней моде, надел светло-коричневый жилет и синий фрак с позолоченными пуговицами, смочил носовой платок одеколоном (в те времена парфюмерия не баловала нас разнообразием ароматов), аккуратно уложил волосы, которыми втайне гордился. Ныне голова моя сверкает гладкой розовой лысиной, а от вьющейся темно-каштановой шевелюры осталась лишь дюжина-другая седых волосков. Но не будем вспоминать о грустном. В те годы, как я уже сказал, у меня были густые темно-каштановые кудри, и я уделял туалету немало внимания. Я увенчал свою легкомысленную голову изысканной шляпой, чуть сдвинув ее набекрень под тем самым углом, какой ввел в обиход бессмертный император. «Завершили мое облачение», выражаясь языком сэра Вальтера Скотта, пара тонких французских перчаток и элегантная тросточка, только что вошедшая в моду.
Столь тщательные приготовления к обычной прогулке по Двору захолустной гостиницы могут показаться странными. Я предпринял их исключительно ради прекрасных глаз, которые видел единственный раз в жизни и не мог бы забыть до конца дней своих. Короче говоря, я питал смутную надежду на то, что эти глаза хоть на миг остановятся на изысканном наряде несчастного влюбленного и составят о нем мало-мальски приятное впечатление.
Тем временем начало темнеть; последний солнечный луч угас, в комнате воцарились сумерки. Я тяжело вздохнул и выглянул в окно. Окно этажом ниже также оказалось открыто; до меня донеслись приглушенные голоса. Граф и графиня увлеченно спорили о чем-то, однако я, как ни старался, не мог разобрать ни слова. Я сразу узнал голос мужчины, гнусавый и пронзительный. Такой голос трудно с чем-то спутать. Отвечал ему голос тихий и нежный, тот самый, что ранил мое сердце. Разговор продолжался недолго: мужчина захохотал с дьявольской язвительностью и отошел от окна. Теперь я почти не слышал его. Женщина, судя по голосу, чуть отступила вглубь комнаты, но по-прежнему оставалась недалеко от окна.
Беседа происходила отнюдь не на повышенных тонах. О, я готов был все отдать за то, чтобы это была ссора, жестокая ссора, и я смог бы выступить в роли защитника неправедно обиженной красавицы! Увы! Судя по тону разговора, пара эта была самой дружной и мирной. Через мгновение дама принялась напевать старинную песенку. Нет нужды напоминать, что пение, даже негромкое, разносится куда дальше, чем спокойно произнесенная речь. Я сумел разобрать слова песни. Голос у незнакомки был приятный и нежный; если не ошибаюсь, такой голос называется «полуконтральто». В интонациях было что-то жалобное и, как мне показалось, насмешливое. Я попытался перевести слова песни, пусть неуклюже, зато достаточно точно:
Любовь и Смерть всегда вдвоем
Ждут путника в засаде.
И ночью, и весенним днем
Сулят ему награду.
Жаркий шепот, нежный взгляд -
И закрылась клетка.
Смерть с Любовию разят
Из засады метко.
— Хватит, мадам! — прервал ее голос старика, внезапно сделавшийся злобным. — Не собираетесь же вы развлекать своим пением конюхов и слуг.
Женщина весело рассмеялась.
— Мадам, вам угодно ссориться? — старик с грохотом захлопнул окно, едва не разбив стекла.
Стеклянная перегородка, даже очень тонкая, практически полностью поглощает звук. Я не слышал больше ничего, даже приглушенного разговора.
Какой чудесный голос у графини! Нежный, мелодичный, трепетный! Он поразил меня в самое сердце. О, я готов был шею свернуть этому старому ворону, что осмеливается каркать на поющую Филомелу! «Увы! Так устроена жизнь! — глубокомысленно рассуждал я. — Прелестная графиня, существо, наделенное ангельским терпением, красотой Венеры и достоинствами всех девяти муз, вынуждена покоряться грубияну-мужу! Она слышала, как я открываю окно, и прекрасно знает, кто занимает комнаты над ней. Нетрудно догадаться, для кого в действительности предназначено ее пение — а ты что заподозрил, глупый старик?»