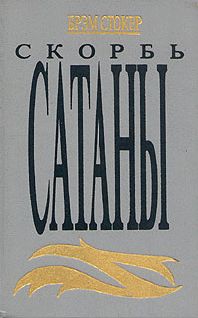Брем Стокер - Скорбь Сатаны (Ад для Джеффри Темпеста)
– Конечно, будет отказ, – сказал я почти громко.
Как ни был расположен приятель при других обстоятельствах, но при просьбе одолжить денег он непременно окажется черствым. Он выразит свои сожаления, обвинит профессию и вообще плохие времена и обнадежит, что все скоро перемелется. Мне это было хорошо известно. В конце концов, почему я должен думать, что он не такой, как все? Я не имею на него иных прав, кроме воспоминаний о нескольких сентиментальных днях в Оксфорде.
Против воли у меня вырвался вздох, и на секунду глаза заволоклись туманом. Опять я видел серые башни мирной Магдалины, чудесные зеленые деревья, покрывавшие тенью дорожки внутри и кругом старого дорогого университетского города, где мы – я и человек, чье письмо я сейчас держал в руке, – вместе бродили, счастливые юноши, воображая себя молодыми гениями, родившимися, чтобы преобразовать мир. Мы оба любили классиков – мы были полны Гомером и мыслями и принципами всех бессмертных греков и римлян. И я верю, что в те далекие мечтательные дни мы думали, что в нас было то вещество, из которого создаются герои. Но вступление на общественную арену скоро разрушило наши высокие фантазии; мы оказались обыкновенными рабочими единицами, не более; проза ежедневной жизни отстранила Гомера на задний план, и мы вскоре открыли, что общество интересовалось более последним скандалом, чем трагедиями Софокла или мудростью Платона. Без сомнения, было крайне глупо мечтать, что мы могли преобразовать свет, тем не менее самый закоренелый циник вряд ли станет отрицать, что отрадно оглянуться назад, на дни юности, когда, быть может, только один раз в жизни он имел благородные стремления. Лампа горела скверно, и мне пришлось заправить ее прежде, чем приступить к чтению письма моего друга.
В следующей комнате кто-то играл на скрипке, и играл хорошо. Нежные звуки лились из-под смычка, и я слушал, безотчетно радуясь. Ослабев от голода, я впал в какое-то состояние, доходившее до оцепенения, и проникающая мелодия, вызывая во мне эстетичные и сладостные чувства, укротила на мгновение ненасытное животное, требующее пищи.
– Играй, играй! – пробормотал я, обращаясь к невидимому музыканту. – Ты упражняешься на своей скрипке, без сомнения, для заработка, поддерживающего твое существование. Возможно, что ты какой-нибудь бедняга в дешевом оркестре, или, может быть, даже уличный музыкант, принужденный жить по соседству с «джентельменом», умирающим от голода; у тебя не может быть надежды когда-нибудь войти в моду и играть при дворе; если же ты надеешься на это, то это безумно! Играй, дружище, играй! Звуки, что ты извлекаешь, очень приятны и заставляют думать, что ты счастлив, хотя я сомневаюсь в этом. Или и у тебя пошло все прахом?
Музыка стихала и становилась жалобнее; ей теперь аккомпанировал шум града по оконным стеклам. Ветер со свистом врывался в дверь и взвывал в камине – ветер, холодный, как дыхание смерти, и пронизывающий, как игла. Я дрожал и, нагнувшись к коптящей лампе, приготовился читать.
Едва я разорвал конверт, как оттуда выпал на стол чек на 50 фунтов, которые я мог получить в хорошо известном Лондонском банке. Мое сердце дрогнуло от облегчения и благодарности.
– Я был несправедлив к тебе, старый товарищ! – воскликнул я. – У тебя есть сердце!
И, глубоко тронутый великодушием друга, я внимательно прочел его письмо. Оно было не очень длинно и, очевидно, написано второпях.
"Дорогой Джефф!
Мне больно слышать, что ты находишься в затруднительных обстоятельствах; это показывает, что глупые головы еще процветают в Лондоне, если человек с твоими дарованиями не может занять принадлежащего ему места на литературном поприще. Я думаю, что тут весь вопрос в интригах, и только деньги могут их остановить. Здесь 50 фунтов, которые ты просил: не спеши возвращать их. Я хочу тебе помочь в этом году, посылая тебе друга – настоящего друга, заметь! Но передаст тебе рекомендательное письмо от меня, и между нами, старина, ты ничего лучшего не сделаешь, как если доверишь ему всецело твои литературные дела. Он знает всех и знаком со всеми ухищрениями редакторских приемов и газетных клик. Кроме того, он большой филантроп и имеет особенную склонность к общению с духовенством.
Странный вкус, ты скажешь, но он мне совершенно откровенно объяснил причину такого предпочтения. Он так чудовищно богат, что буквально не знает, куда девать деньги, а достопочтенные джентельмены церкви всегда охотно указывают ему способы растрачивать их. Он всегда рад узнать о таких кварталах, где его деньги и влияние (он очень влиятелен) могут быть полезны для других. Он помог мне выпутаться из очень серьезного затруднения, и я у него в большом долгу. Я ему все рассказал о тебе и о твоих талантах, и он обещал поднять тебя. Он может сделать все, что захочет; весьма естественно, так как на свете и нравственность, и цивилизация, и все остальное подчиняются могуществу денег, а его касса, кажется, беспредельна. Воспользуйся им, – он сам этого желает, и напиши мне, что и как. Не хлопочи относительно 50 фунтов, пока не почувствуешь, что гроза тебя миновала.
Твой всегда,
Босслз".
Я засмеялся, прочитав нелепую подпись, хотя мои глаза были затуманены чем-то вроде слез. «Босслз» было прозвище, данное моему другу некоторыми из наших школьных товарищей, и ни он, ни я не знали, как оно впервые возникло. Но никто, кроме профессоров, не обращался к нему по имени, которое было Джон Кэррингтон; он был просто Босслз, и Босслзом он остался даже теперь для своих задушевных друзей. Я сложил и спрятал его письмо вместе с чеком и, размышляя, что за человек мог быть этот «филантроп», который не знает, что делать с деньгами, принялся за два других пакета. Я чувствовал с облегчением, что теперь, что бы ни случилось, я могу завтра оплатить счет квартирной хозяйке, как обещал. Кроме того, я мог заказать ужин и зажечь огонь, чтобы придать более веселый вид моей холодной и неуютной комнате.
Но прежде, чем воспользоваться этими благами жизни, я вскрыл длинный синий конверт, который выглядел, как угроза судебного протокола, и, развернув бумагу, смотрел на нее в изумлении. Что это значит? Буквы прыгали перед моими глазами; в недоумении и замешательстве я перечитывал ее снова и снова, ничего не понимая. Но вскоре мелькнувшая мысль осенила меня, переполошив мои чувства, как электрический удар… Нет! Нет! Фортуна не могла быть так безумна! Так странно капризна! Это была какая-нибудь бессмысленная мистификация… А между тем… если это была шутка, то шутка изумительная! Имеющая также вес закона! Клянусь, новость казалась положительно достоверной!