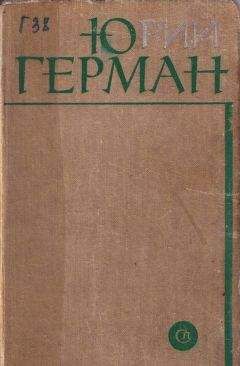Из бездны - Шендеров Герман
– Тогда д-душу п-проигрываешь, – заканчивал Женька.
Техника – и телевизор, в частности, – вообще породила массу легенд. Пока родители вкалывали на работе, мы были предоставлены сами себе, и телевизор с видеомагнитофоном становились одним из немногих развлечений, если, допустим, никто не хотел гулять или ты пропускал школу по болезни. Мы смотрели диснеевские мультфильмы в жутком гнусавом переводе, какое-то провалившееся в зарубежном прокате детское кино, да и вообще все подряд, вплоть до «Кошмаров на улице Вязов» и «Молчания ягнят». Весь мой двор Серега научил искать «тайную кассету», которая обязательно была у родителей – высоко на антресолях либо на дне ящика с бельем. Так, кстати, будучи у кого-то в гостях, Бажановы нередко под предлогом поисков кассеты находили родительские заначки и утаскивали купюру-другую. Иногда «тайную кассету» удавалось обнаружить, но содержимое редко соответствовало ожиданиям: обычно вместо запретной «клубнички» на пленке оказывались семейные кинохроники. Бажановы говорили, что находили какие-то совершенно дикие вещи: как на видео мужик целуется с козлом взасос и чешет ему под пузом. Или как голая девушка сладострастно скачет на лице мертвеца. Тогда я им не поверил, ведь еще не знал о существовании фильма Буттгерайта «Некромантик». Про найденные у родителей кассеты ходило много слухов, и был даже своеобразный мальчишеский «грааль» – мультфильм «как Сейлор Мун, только все голые и трахаются».
Ходила среди нас и байка-предупреждение о том, что нельзя щелкать по пустым каналам, иначе можно дощелкаться до минус первого, где в облаках белого шума и помех обитают загадочные «они». Про «них» было мало что известно, но говорили, что встречи с ними заканчиваются плачевно. Якобы детей находили скрюченными, с выпученными глазами и открытым ртом напротив телевизора, передающего белый шум. А когда телевизор выключали, шипение статики не пропадало, потому что раздавалось из глоток несчастных.
Часто после подобных историй я не мог уснуть, ворочался в кровати, потом вскакивал и бежал к своему столу. Дело было не в страхе. Все, о чем я мог думать, – что же видели персонажи этих баек прежде, чем встретить свой бесславный конец? В попытках представить эту неописанную деталь – «второго игрока», лицо мертвой продавщицы в ларьке, очи пламенной Богородицы и загадочных обитателей телепомех – я мог перепортить с десяток альбомных листов. Все неудачные попытки отправлялись в урну. А удачных у меня не было. В каждом штрихе сквозила фальшь, ведь я никогда в жизни не смотрел в глаза злу. Даже история про Мазурина была ложью – и это делало мои рисунки пустышкой.
В глубине души, в тайне от себя самого, я страстно желал столкнуться с чем-то подобным, чтобы наконец понять, что есть ужас и что ждет героев в конце всех страшных историй. И одним августовским вечером девяносто девятого мне выдался шанс исполнить это желание.
За день до этого Женька с Серегой, вызвонив меня по домофону, начали утро с очередной байки:
– П-прикинь, в «Юности» по воскресеньям ночью к-кино крутят. Для деб-билов из «тринашки».
Старый советский кинотеатр «Юность» находился сразу за тринадцатой школой, белел известковой поганкой посреди неухоженного сквера. Когда-то, наверное, это было достойным образцом советской архитектуры, и отец даже рассказывал, как он, будучи таким же пацаном, набирал полные карманы кислой антоновки и проскальзывал мимо билетерши на индийские фильмы и «Неуловимых мстителей». Но к началу девяностых этот осколок сталинской эпохи превратился в мрачную развалюху. Двери исписаны всякой пошлятиной, колонны изъязвлены червоточинами сигаретных бычков, угол здания осыпался и превратился в гору щебня.
Женька настаивал на своем, а Серега поддакивал слишком высоким для его дюжего телосложения голосом:
– Я тебе клянусь! Мы со старшаками в школу лазили, я с забора сам видел, как их училки шеренгой заводят.
– Не училки, а воспиталки.
– Ну, воспиталки, похрен. Ты мне что, не веришь?
Я был уже стреляный воробей:
– Сердцем матери поклянись!
Обычно после такого сурового требования любые байки теряли в достоверности – рассказчик тушевался и не был готов отвечать «за базар». Но тут Серега решительно проговорил:
– Клянусь сердцем матери!
– Руки покажи! – потребовал я. Если скрестить пальцы, то клясться можно чем угодно. Но Серегины пальцы были демонстративно растопырены.
– Теперь веришь?
– Ну, крутят, и что? Мало ли, мож, какие-то лечебные…
– А п-прикинь, им за вредность что-нибудь попокруче показывают? Какие-нибудь бо-оевики или для взрослых… – мечтательно протянул Женька.
– За вредность молоко дают.
– Ну, з-за инвалидность. Жалеют, короче. Тебе ваще н-неинтересно?
Честно – меня тогда эта мысль не зацепила совсем. Фильмы и фильмы – у отца такая коллекция кассет, что я, наверное, за всю жизнь все не посмотрю. А вот Бажановы загорелись. Может быть, потому, что у них-то как раз не то что кассет – своего видика не было.
– Короч-че, у нас мамка на с-смене завтра в ночь. Я ду-умаю, если мы в-в шеренгу к дебилам вк-клинимся – сможем пройти на-а сеанс.
– А батя?
– Батя… – Серега хмыкнул. – Насрать ему. Ты-то как выберешься?
– Я?
К приглашению я был не готов. Честно говоря, вся эта затея казалась мне глупой и опасной. Что будет, если нас поймают? Хорошо если просто выгонят с пинками. А если сдадут в детскую комнату милиции?
– Я пас.
– Я ж говорил, з-з-зассыт, – кивнул Женька. – Давай, п-проспорил.
Серега со вздохом извлек из кармана пятнадцать рублей пятирублевыми монетами, ссыпал в подставленную руку. После с укором взглянул на меня:
– Ладно, ссыкло. Ты тогда оставайся дома под маминой юбкой, а мы пойдем кино смотреть.
Каким бы я ни был трусоватым, я легко велся на манипуляции.
– Во сколько?
– В девять начало.
Поздно. Вряд ли меня выпустят в такое время. Что ж, если нет – это уже будет не моя вина и никто не назовет меня ссыклом.
– Я спрошу у родителей.
– Т-тупой, что ли? Тебя не п-пустят. Смотри, я все продумал. – Женька горячо затараторил, почти перестав заикаться. – Сегодня вечером наша мама п-позвонит твоей и скажет, что ты завтра ночуешь у нас. Типа, поиграем в п-приставку, и все такое. А завтра вечером ты придешь к нам, позвонишь своим, скажешь, что все нормально. Потом все вместе – к «тринашке».
– Ага. И что я скажу, когда вернусь посреди ночи?
– Зачем посреди ночи? К нам пойдешь, до утра посидишь. Бате похер – хоть табун приводи. Ну, забились?
– Забились, – обреченно кивнул я, понимая, что попал.
Вечером того же дня раздался звонок. Мама взяла трубку, защебетала:
– Да, да, конечно. Без проблем. Пускай поиграют. К половине девятого? Хорошо. Что собрать с собой? Ну, спасибо тебе, разгрузила, а то сама знаешь… Договорились. Все, пока!
Положив трубку, она спросила:
– А чего ты не сказал, что Бажановы позвали тебя с ночевкой?
– Забыл, – мрачно ответил я.
Спалось мне в ту ночь гадко. Я просыпался, вертелся, сбрасывал одеяло и снова натягивал, мучаясь то от липкой жары, то от лихорадочной дрожи.
Снилось, что я сижу в зрительном зале, а «дебилы», пуская слюни и сопли, смотрят на экран, где красотка елозит тем самым местом по мертвому сгнившему лицу. А потом это место оказывается вросшим в ее живот карпом, глодающим мягкие полуистлевшие щеки. Я кричу, и «дебилы» поворачиваются ко мне, открывают рты, а из них раздается оглушительный шум телестатики.
Весь день я провел, как перед казнью. Ночные кошмары не развеялись, а переросли в навязчивую полуденную тревогу. Любимые вещи не приносили радости – вафли «Куку-руку» казались не слаще картона, электронный писк приставки раздражал. Даже когда начался «Дисней-клуб» с его «Утиными историями», я мог думать лишь о кинотеатре «Юность» и фильмах, которые там идут по ночам. В голове вертелось четкое осознание: то, что там показывают, – неправильное, неестественное, злое. Перед глазами мелькали картины перекрученных, извращенных сюжетов: как Хома Брут, страшный, выпучив пустые и сверкающие, как у Вия, глаза, гоняется по церкви за панночкой в исполнении Натальи Варлей. Как Ким Бейсингер из «Девяти с половиной недель» медленно опускается на колени перед Микки Рурком и вгрызается ему в живот; по-собачьи треплет из стороны в сторону, вытягивает кишки. Как мертвенно-бледный Сталин в последний раз затягивается трубкой и выпускает пулю из чекистского маузера себе в висок, а за окном его кабинета виднеется Спасская башня, на которую, словно на здание Рейхстага, устанавливают огромный красный стяг с черным пауком свастики посередине.