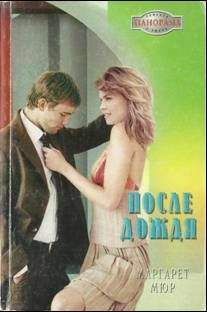Леонид Моргун - Сатанинская сила
— Валёк! — закричал Семен, заметив старого знакомца. — Эй, Валёк!
— Ну чего тебе, дядя? — недовольно отозвался тот. — Какой у меня был ножик, такой я тебе и дал, другого у меня нету.
— Да я не про нож. Чего стряслось-то там?
— Как чего? Змей Горыныч Малые Хари пожег.
Руки Семена при этом известии разжались, и он рухнул на бетонный пол своей темницы.
X
Если учитывать тот факт, что среди большинства цивилизованных народов полоумные считаются «божьими людьми», становится понятым, почему в свете последних событий неизлечимый идиотизм и набожность уже упоминавшейся нами бабушки Пелагеи снискали ей всеобщее почитание, граничащее с подобострастием. Да и кто как не она день-деньской отбивала поклоны, сидя у церкви? Кто был смирнее и незлобивее ее? Кто, подобно первохристианам через все жизненные невзгоды влачил на себе крест собственного скудоумия? В эти же дни, особенно после посрамления и бегства отца Одихмантия, рейтинг бабушки Пелагеи (да простят нам читатели этот неологизм, единственно точный в данных обстоятельствах) в глазах новообращенных букашинцев поднялся на недосягаемую высоту. Ныне она восседала в новом молельном доме (им стал прежний клуб) в красном углу, под образами и таращила свои безумные глаза в потолок. Она беспрестанно пила чай, крестилась и тою же рукой отправляла в рот кусочки мелко наколотого рафинада, сухарики, печенья, печатные пряники, словом, все, что перед нею ставили. Время от времени она принималась вещать нечто бессвязное, что собравшиеся в доме богомолки принимали как невесть какие откровения. Они были настолько убеждены в святости своего кумира, что их не смущало даже то, что бабушка лыка не вязала и по десять раз на дню ходила под себя. Порой это случалось во время службы, и тогда ее преданные дьякониссы потягивали носами воздух и перешептывались: «Сподобилась, божья душа!..» — а затем уводили святую помыться и переодеться.
Очередной конфуз (или благодать) случились с бабушкой во время пребывания Сашеньки Бузыкиной в отделении. Когда бабушку выводили на воздух, Сашенька ступила на последнюю ступеньку лестницы. И ведь надо было бабке пройти всего два шага до баньки, где ожидал ее таз с теплой водой, свежее белье и платье, а тут вдруг, увидев девушку, стала она на месте как вкопанная и завопила на всю площадь:
— Ввв-о-о-о! О! О! О! Во-о имя вя-вя-вя и духа… Во! Во! — И такой злобой и ненавистью был полон ее взгляд, что на какое-то время он заворожил Сашеньку, подобно тому, как удав взором своим лишает воли и сил двигаться робкого кролика. На этот раз из молельного дома высыпали бабы и встали, не сводя глаз с Сашеньки, которая была до неприличия красива в коротеньком своем бело-розовом платьице, что, кстати, по нынешним меркам было достаточно скромным, но казалось верхом неприличия среди однообразных мешковатых и темных одежд, которые теперь были приняты у букашинок. Некоторое время девушка безмолвно стояла против толпы женщин, наконец, дальнейшее молчание и ожидание стали невыносимыми, она поджала губы и собиралась было пройти мимо, но тут кто-то (говорят, что бухгалтерша молокозавода Людмила Петровна, та самая, что в порыве религиозного рвения расколошматила все микрокалькуляторы и выбросила в окошко единственный новехонький компьютер) выкрикнула:
— Ах ты… нехристь!
— Бусурманка! — поддержала ее телеграфистка Галка.
— Стерьва бузыкинская, тварюга… дьяволово отродье, нечисть поганая… — загомонили бабы, подступая ближе.
— Вы чего, обалдели, да? — попыталась было пискнуть Сашенька, но сильный удар в грудь сбил ее с ног. Затем град ударов со всех сторон обрушился на нее. Возможно, тут и пришла бы ей погибель, если бы именно в этот миг на площадь не высыпала толпа малохарьцев вкупе с букашинскими мужиками.
Людмила Петровна распорядилась запереть Сашеньку в предбанник, где хранились березовые веники, и вместе с другими богомолками отправилась поглазеть на площадь.
* * *Выглянув в окошко, Боб с Семеном так и ахнули, увидев духовного лидера митингующих. На плечах толпы сидел… капитан Заплечин. Взор его горел радостным безумием. Он познал власть лозунга над толпой. Совсем недавно массовое скопление народу на улицах побудило его подползти к окну амбулатории, где он лежал спеленутый по рукам и ногам смирительной рубашкой, и истово заорать:
— Долой партократию! Свободу узникам совести!..
Ликующая толпа вдребезги разнесла медсанчасть с амбулаторией, заставила доктора Потрошидзе выпить весь уготованный пациентам запас сульфазина, освободила Заплечина и на плечах своих понесла его на площадь. Там-то наконец и состоялся грандиозный митинг, равного которому городок Букашин не знал с семнадцатого года. Откуда ни возьмись, появились плакаты, в которых клеймились позором еще недавно самые светлые идеалы и обливались грязью самые святые портреты, а ведь их не далее, как два месяца назад выносили на первомайскую демонстрацию! Тут же наспех был организован Народный фронт освобождения Букашина, куда малохарьцев и лепилинцев, естественно, не принимали. Первым пунктом записали, чтоб инородцам и деревенщине не выдавать паек, а все реквизированные на базе продукты распределить между своих. Малохарьцы и лепилинцы тут же создали свой Объединенный фронт и разгромили единственный букашинский гастроном. Труднее всего пришлось одному хохлу, двум татарам и трем евреям, которых вообще никто никуда не записывал, и потому они организовали Интердвижение. Говорили они складно и красно, однако двое из них были очкастыми, а потому слушать их хоть и слушали, но не доверяли.
Тут к митингующим подошел майор Колояров и заявил в мегафон:
— Граждане, ввиду того, что митинг не санкционирован, прошу немедленно всех разойтись.
— А кто его должен сан-кционировать? — полюбопытствовала толпа. — Ты что ль?
— Не я, а совет управы! — упорствовал майор. — Он соберется через два месяца, вот тогда и подавайте заявку, ее рассмотрят и…
— Ах он над нами здиваитца… — догадались в толпе. — Ништо нечистая сила будет два месяца твоих санкциев ждать.
Тут на телегу взобрался Ююка и заорал. Его хрипловатый надрывный голос безо всяких технических средств доносился до самых дальних уголков площади.
— За что страдаем, братцы?! — вопил он. — За покорность свою и незлобивость, вот за что! Я вон пять лет в Коми отмотал ни за хрен собачий, а за кого? За гниду эту поганую, за майора легавого, за то, что ему крыло помял! Громи их, братва! Круши мусоровку!
— Ой, вон! Вон они там родимцы-то сидят, узники совести наши! Семочка мой миленький! — запричитала мама Дуня, увидев за решеткой лицо пасынка.