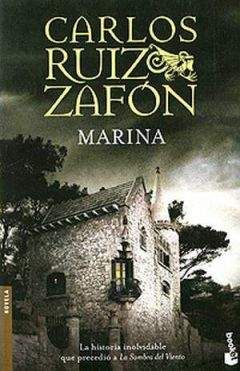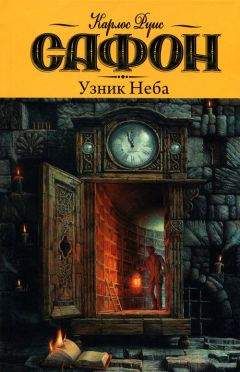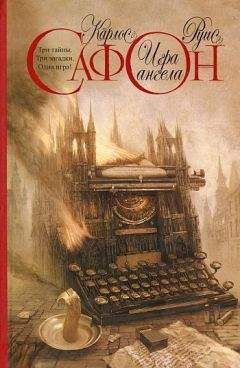Карлос Руис Сафон - Марина
– Обмундирование полное, можно отправляться на Северный полюс, – я пришел в себя настолько, что смог пошутить.
– Запас карман не тянет. Устраивайся, я сейчас вернусь, – ее шаги затихли в коридоре.
Освободившись от лохмотьев, в которые превратилась моя одежда, я скользнул под пахнущие чистотой простыни. Никогда в жизни я еще не был так измотан. Глаза неудержимо смыкались, но тут вернулась Марина с какой-то хламидой метров двух длиной, происхождением не иначе как из сундуков средневековой инфанты.
– Избавь меня от этого, ради бога. И так посплю.
– Понимаешь, больше ничего подходящего не нашлось. Да ладно, не упрямься, тебе в ней будет отлично. И потом, подумай, что скажет Герман! Голый молодой красавец прямо в нашем доме?! Никогда в жизни. Надевай.
Она бросила музейный артефакт на мою кровать, поставила канделябр на столик рядом.
– Если что-то понадобится, стукни в стену, я услышу.
Мы молча глядели друг на друга. Марина отвела глаза первой.
– Спокойной ночи, Оскар, – шепнула она.
– Спокойной ночи.
А прямо в следующее мгновение я проснулся от яркого солнечного света, заливавшего всю просторную комнату. Окна выходили на восток, и восходящее над Барселоной светило било прямо в глаза. Моя одежда, оставленная ночью на стуле, исчезла. Мне только и оставалось, что проклясть коварную любезность моей заботливой хозяйки. Что за издевательство! Но снизу плыл просто невыносимо вкусный запах свежего хлеба и кофе, и я принес чувство собственного достоинства в жертву низменному зову плоти: напялил-таки невообразимую рубаху. Выйдя в коридор, я с восторгом заметил, что не только комната, но и весь дом насквозь просвечены солнцем. Прекрасные интерьеры просто сияли. Я чувствовал себя внутри зажженной елки. Снизу, из кухни, доносились беззаботные голоса хозяев дома. Я остановился в дверях и кашлянул. Марина, наливавшая кофе, не оторвалась от своего занятия, а Герман обернулся с улыбкой.
– Доброе утро, спящая красавица, – сказал он, вставая навстречу гостю с той подлинной благородной приветливостью аристократа, которую нельзя подделать. Благородство чувств было просто сутью Германа и никогда не замечалась им самим. Хозяин дома пододвинул мне стул, приглашая к столу.
– Доброе утро, Оскар, доброе утро! Я так рад вас видеть, – оживленно заговорил Герман. – Марина рассказала, что произошло в интернате. Пожалуйста, будьте как дома, и останьтесь с нами сколько вам понадобится. Поверьте: вы здесь желанный гость.
– Спасибо. Спасибо вам…
Марина в это время наливала мне кофе и с непередаваемой улыбочкой разглядывала мое стародевическое облачение.
– Боже, как тебе идет! Никогда не видела тебя таким красивым.
– Угу. Цветок душистых прерий. Где моя одежда, мучительница?
– Сохнет. Я ее выстирала.
Герман пододвинул ко мне корзинку с благоухающими круассанами, только что привезенными от Фойша. Выброс слюны у меня был почище, чем у собаки Павлова.
– Попробуйте, вам должно понравиться, – вежливо предложил Герман. – Среди круассанов выпечка Фойша держится где-то на уровне «мерседесов» среди машин. Что до мармелада, то он у нас скоро станет памятником самому себе, и все же рискните намазать его на круассан – может быть, поддастся.
Стараясь не рычать и не стонать, я пожрал все предлагаемое за время, которое оставило далеко позади все рекорды, поставленные спасшимися от кораблекрушения. Герман рассеянно закрылся газетой. Он был в прекрасном настроении и, хотя давно позавтракал, не выходил из-за стола, пока я не смел оттуда все, кроме столового серебра и тарелок. Свернул газету. Взглянул на часы.
– Папа, ты не опоздаешь на встречу со своим духовником?
Герман неохотно кивнул.
– Право, не знаю, для чего я так стараюсь… боюсь, мне не переиграть этого выдающегося темнилу… а уж ловушек у него больше, чем на минном поле…
– Ну же, взбодрись, – уговаривала его Марина, – вообрази, что это такая епитимья. А потом – отпущение грехов…
Я в изумлении слушал этот диалог, ничего не понимая.
– Шахматы, – пояснила Марина, видя мое ошеломление, – папа с нашим священником уже много лет в состоянии позиционной шахматной войны. У них напряженный и неустойчивый паритет.
– Друг мой Оскар, никогда не садитесь играть в шахматы с иезуитом, – сентенциозно изрек Герман, поднимаясь на ноги.
– Ни за что на свете. Желаю вам сегодня у него выиграть.
– Ну что ж, тогда, с вашего позволения…
Герман вооружился тростью черного дерева, облачился в плащ и шляпу и отправился на встречу со стратегически одаренным прелатом. Марина проводила его по саду, обратно же вернулась с моей высохшей одеждой.
– Прости, но, кажется, Кафка успел на ней поспать.
Действительно, одежда была чистой и сухой, но на всю округу благоухала котом.
– Когда я ходила за круассанами, позвонила из бара на площади в полицейское управление. Инспектор Виктор Флориан сейчас на пенсии, а живет в Вальвидрере. Телефона там нет, но я знаю адрес.
– Погоди минуту, я оденусь.
Станция фуникулера, ведущего на Вальвидреру, была в десяти минутах ходьбы от дома. Мы сами не заметили, как добрались туда неторопливым шагом и, купив билеты, оказались на платформе вагончика подвесной дороги. Холмы Вальвидреры мягкими линиями опоясывали город, повиснув над ним, как театральные ярусы над партером. Дома там, казавшиеся маленькими с такого расстояния, висели среди низких туч, словно елочные игрушки. Фуникулер медленно поднимался, а мы, приникнув к заднему стеклу вагончика, зачарованно наблюдали, как Барселона у нас под ногами расстилалась все дальше, к морю.
– Завидная, однако, работа – водить фуникулер, – предположил я. – Каждый день поднимать людей ближе к небу.
Марина скептически улыбнулась.
– Не согласна?
– Неужели это все, чего ты хочешь от жизни?
– Да не знаю я, чего жду от жизни. Не у всех жизненные перспективы столь ясны, как у Марины Блау, будущей лауреатки Нобелевской премии по литературе и хранительницы уникальной коллекции нижнего белья.
Марина вдруг стала такой серьезной и строгой, что я раскаялся в своей шутке.
– Кто не знает, куда он направляется, тот никуда и не прибудет, – холодно промолвила она.
Я показал свой билет:
– Я точно знаю, куда направляюсь!
Она отвела взгляд. Пару минут мы молча смотрели на панораму внизу. Проплыли мимо башни моей школы.
– Архитектура. Да, архитектура, – непроизвольно шепнул я вслух.
– Что?
– Архитектура – это то, чего я хочу. То, к чему я поднимаюсь. Ты первая, кому я это говорю.