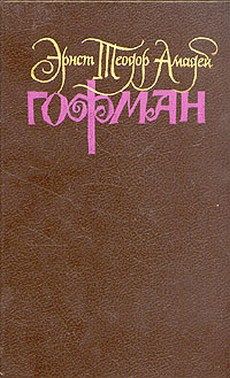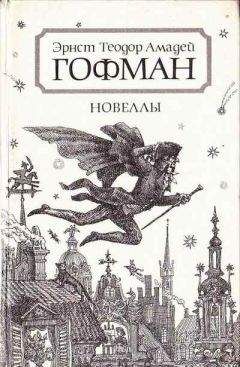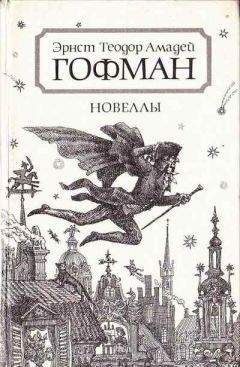Эрнст Гофман - Эликсир дьявола
Вынужденный повиноваться этому оригиналу, я зашагал по комнате, как он того желал; при этом я всячески пытался не выказывать монашеского благолепия, от которого, как известно, полностью избавиться невозможно, как бы давно ты ни покинул монастырь. Малютка пристально наблюдал за мной, потом засуетился вокруг меня, как бы вторя мне своими шажками; он отдувался, охал, вытащил даже носовой платок, чтобы отереть пот со лба. Наконец он угомонился, и я спросил его, представляет ли он себе теперь, как приняться за работу. Он со вздохом ответил:
― Ах, сударь! Как же так? Вы не верны себе, в движении вашем чувствуется умышленность, заданность, одна ваша натура противоборствует другой. Шагните еще, сударь!
Мне отнюдь не улыбалось дальнейшее освидетельствование, и я заупрямился, потребовав, чтобы он либо начинал меня стричь, либо я буду вынужден обойтись без его художества, если он все еще колеблется.
― Умри же, Пьетро, ― возопил малютка с невообразимой горячностью, ― умри же, ибо тебя не хочет знать этот мир, где утрачены верность и откровенность. Вам бы восхититься моей зоркостью, достигающей глубин вашей души, вам бы, сударь, почтить мой гений! Мне не удался гармонический синтез всего того несовместимого, что замечается в движениях ваших и в самой вашей личности. Ваша поступь, сударь, ― это поступь духовного лица. Ex profundis clamavi ad te Domine ― Oremus ― Et in omnia saecula saeculorum ― Amen![3]
Малютка пропел эти слова с хрипотцой и надрывом, безукоризненно имитируя осанку и жестикуляцию монаха. Он поворачивался, как священник перед алтарем, преклонял колени, снова вставал, но вдруг напустил на себя заносчивую строптивость, наморщил лоб, глянул свысока и произнес:
― Мир ― мое владение; я богач, умник-разумник, а вы нет, вы все ― кроты в сравнении со мной. Кланяйтесь же мне! Смотрите, сударь, ― продолжал карапуз, ― вот первоэлементы вашей наружности, и если вы не возражаете, то я, исходя из ваших черт, форм и душевных качеств, попытаюсь частично слить Каракаллу, Абеляра и Боккаччо, чтобы сплав принял завершенный образ, и начну строить невиданное антично-романтическое здание из ваших эфирных локонов и волосков.
Я не мог отказать малышу в проницательности и не преминул открыть, что действительно имел отношение к духовенству, успев даже удостоиться тонзуры, которую, однако, предпочел бы не выставлять напоказ.
Крошка занялся моими волосами, кривляясь, приплясывая и витиевато разглагольствуя. То он мрачнел и хмурился, то посмеивался, то изображал атлета, то поднимался на цыпочки, и как я ни подавлял смех, невозможно было смеяться больше моего.
Наконец он справился со своей задачей, и, предупредив новый взрыв его красноречия (слова уже теснились у него на языке), я спросил его, нет ли кого-нибудь способного сделать с моей запущенной бородой то же, что он сделал с волосами. Цирюльник загадочно усмехнулся, подкрался на цыпочках к двери и запер ее. Потом он тихонько возвратился на середину комнаты, чтобы изречь:
― О, золотые времена, когда борода и кудри головы ниспадали единым струящимся потоком, краса мужа и чарующий материал для художника. Вы минули, золотые времена! Мужи поступились естественным своим убором, и возник презренный цех, истребляющий бороду до корня своей омерзительной снастью. О вы, гнусные, негодные брадобреи, брадорезы, правьте свои ножи на провонявших маслом черных ремнях назло художеству, трясите вашими бахромчатыми кисетами, бренчите вашими тазиками, вспенивая мыло, брызгаясь вредным кипятком, с кощунственной наглостью вопрошайте ваши жертвы, что засунуть им за щеку: большой палец или ложку? Но встречаются еще такие Пьетро, противодействующие вашему скверному промыслу, даже опускаясь до вашей постыдной поденщины, даже искореняя бороды, они пытаются спасти то, что можно, то, что еще возвышается над морем бушующего времени. Что такое бакенбарды с тысячами своих вариаций, с прелестными своими завихрениями и округлостями, то изгибающиеся нежной овальной линией, то грустно никнущие в ложбинке выи, то дерзко возносящиеся над уголками рта, то смиренно утончающиеся и вытягивающиеся в ниточку, то разлетающиеся в горделивом парении своих прядок ― что они такое, если не ухищрение нашего художества, все еще процветающего в своей приверженности к священной красоте? Эй, Пьетро, яви дух, тобою движущий, отличись художеством в самом жертвенном нисхождении до нестерпимого брадобрития.
Произнося такие слова, крошка вытаскивал весь набор брадобритвенных принадлежностей и начал снимать с меня мою бороду, причем рука у него была легкая и уверенная. Поистине его художество до неузнаваемости изменило мое обличье, и теперь я нуждался только в платье, не столь заметном, чтобы своим покроем возбуждать опасный интерес к моей особе. Крошка стоял, улыбаясь мне от внутреннего удовлетворения. Я сказал ему, что не имею никакого знакомства в городе, а мне весьма желательно по-здешнему приодеться. При этом я втиснул в его пальцы целый дукат, вознаграждая его старания и возжигая усердие, так как весьма нуждался в посыльном и ходатае. Весь просветлев, крошка любовался дукатом у себя на ладони.
― Драгоценный любитель художества и меценат, ― начал он, ― вы не обманули моих надежд; моей рукою двигал дух, и в орлином размахе ваших бакенбард сказывается широта вашей души. Мой друг Дамон, мой Орест не уступает мне ни по гению, ни по глубокомыслию; он сделает для остального вашего стана то, что я сделал для вашей головы. Я подчеркиваю, сударь, он костюмотворец, вот настоящее обозначение его призвания, для которого слишком низменно и буднично звание портной. Он поглощен идеальным, его фантазия ― истинный кладезь форм и образов, и в его лавке чего только нет, товар на любые вкусы. Вам явится там наимоднейшее в неисчерпаемых своих нюансах, то нестерпимо, непревзойденно блещущее, то самоуглубленно-высокомерное, то бесхитростно суетящееся, то саркастическое, едкое, брюзгливое, угрюмое, развязно-прихотливое, жеманное, залихватское. Первый сюртук юнца, заказанный помимо придирчивой маменьки и гувернера, костюм господина, которому за сорок, чьи седины нуждаются в пудре, притязание престарелого жизнелюба, светский лоск ученого, солидность богатого купца, чопорность зажиточного бюргера ― все это у вас перед глазами в лавке моего Дамона; несколько секунд ― и вы насладитесь мастерством моего друга.
Он запрыгал прочь и вскоре привел ко мне высокого упитанного мужчину, одетого с иголочки; словом, это был сущий антипод моего малютки по своему внешнему облику и по всему своему складу, однако оказалось, что это и есть его Дамон.
Дамону, очевидно, служили меркой его глаза, которые скользнули по мне с головы до ног, после чего он распаковал обновки, принесенные приказчиком, и они вполне удовлетворили меня, как будто он заранее знал, что я пожелаю приобрести. Потребовалось время для того, чтобы я убедился в тонком чутье костюмотворца, как выспренне титуловал его крошка; Дамон и вправду одел меня так, что я больше не бросался в глаза, а если и привлекал внимание, то достаточно лестное, помимо моего сословия и профессии, которые как-то переставали интересовать досужих соглядатаев. И действительно, сложная задача ― подобрать себе, так сказать, обобщенный костюм, не только не вызывающий домыслов о том, какая именно у тебя профессия, а, напротив, исключающий возможность такого любопытства. Костюм свидетельствует о всемирном гражданстве скорее отвержением, нежели предпочтением тех или иных частностей и приблизительно сводится к тому же, что и хорошее воспитание, скорее отучающее, чем приучающее к тем или иным действиям.