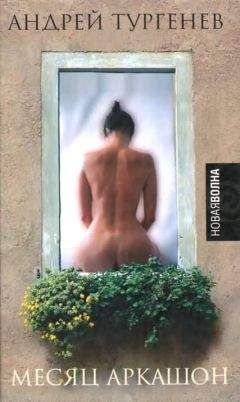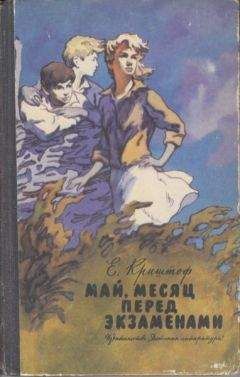Рэй Брэдбери - Что-то страшное грядёт
— Я не способен на это, Вилл. — Джим тронул его за плечо.
— О Джим, Джим, ты ведь соображаешь? Все в свое время, как говорил нам проповедник в прошлом месяце, шаг за шагом, один плюс один, а не два плюс два, вспомни!..
— Все в свое время… — повторил Джим.
Тут до них донеслись голоса из полицейского участка. В одном из кабинетов справа от входа говорила женщина, и ей отзывались мужчины.
Вилл кивнул Джиму, они живо протиснулись сквозь кусты и заглянули в окно.
В кабинете сидела мисс Фоули. Тут же сидел отец Вилла.
— Не понимаю, — говорила мисс Фоули. — Чтобы Вилл и Джим вломились в мой дом, украли вещи, убежали…
— Вы видели их лица? — спросил мистер Хэлоуэй.
— Когда я закричала, они оглянулись, их осветил фонарь.
«Она не говорит про племянника, — подумал Вилл. — И конечно, не скажет».
«Понял, Джим, — едва не закричал он, — это была ловушка! Племянник ждал, что мы будем его выслеживать. Ему нужно было втравить нас в такое дело, чтобы нас потом никто не слушал, ни родители, ни полицейские, что бы мы ни толковали им про луна-парки, про ночные прогулки, про карусели, — потому что нам не будет веры!»
— Я не хотела бы подавать в суд, — сказала мисс Фоули. — Но если мальчики невиновны — где они?
— Здесь! — крикнул кто-то.
— Вилл! — выпалил Джим.
Поздно.
Потому что Вилл, подпрыгнув вверх, уже карабкался в окно.
— Здесь, — коротко произнес он, ступая на пол.
Глава двадцать седьмая
Они тихо шагали домой по окрашенным луной тротуарам — мистер Хэлоуэй посередине, мальчики по бокам. Когда дошли до дома, отец Вилла вздохнул.
— Джим, я не вижу никакого смысла в том, чтобы терзать душу твоей матушки в столь поздний час. Если обещаешь рассказать ей все за завтраком, я отпущу тебя. Ты можешь войти так, чтобы не разбудить ее?
— Конечно. Посмотрите, что у нас есть.
— У нас?
Джим кивнул и подвел их к торцовой стене, где в гуще листьев и мха они нащупали вбитые тайком в кирпич железные скобы, по которым можно было подняться к окну его комнаты. Мистер Хэлоуэй тихонько рассмеялся, при этом что-то кольнуло его сердце, а голову пронизала странная грусть.
— И давно это у вас? Нет, не говори. Я тоже сделал такую лесенку, когда мне было столько лет, сколько тебе. — Он скользнул взглядом вверх вдоль плюща к окну Джима. — Здорово бродить ночью на воле, и сам черт тебе не брат.
Он осекся.
— Надеюсь, вы не слишком поздно возвращаетесь?..
— На этой неделе — в первый раз после полуночи.
Отец Вилла поразмыслил.
— А получить разрешение старших — совсем не то, верно? То ли дело летней ночью тайком прокрадываться к озеру, к железнодорожной насыпи, на кладбище, в персиковые сады…
— Ух ты, мистер Хэлоуэй, вы тоже…
— Ага. Но, чур, не говорить об этом женщинам. Пошел! — Он махнул рукой вверх. — И чтобы в следующем месяце ни разу не гулять по ночам.
— Слушаюсь, сэр!
Джим обезьяной метнулся вверх к звездам, юркнул в окно, затворил его, задернул штору.
Отец Вилла поглядел на потайные скобы, соединяющие звездное небо с вольным миром проулков, зовущим провести забег на тысячу метров, с миром высоких барьеров из темных кустов, миром кладбищенских стен и решеток — без шеста не перепрыгнуть…
— Знаешь, Вилл, что меня больше всего гнетет? Что я уже не могу бегать так, как ты.
— Да, сэр, — ответил его сын.
— А теперь давай внесем ясность, — сказал отец. — Завтра пойди к мисс Фоули, извинись еще раз. Обыщи газон. Может быть, при свете спичек и фонариков мы не нашли чего-то — из украденного. Потом сходи к начальнику полиции, отчитайся там. Ваше счастье, что вы сами объявились. Ваше счастье, что мисс Фоули не станет обращаться в суд.
— Да, сэр.
Они возвратились к своему дому. Отец порылся рукой в плюще.
— У нас тоже?
Его пальцы нащупали под листьями скобу, вбитую в стену Виллом.
— У нас тоже.
Отец достал кисет, набил трубку, стоя возле плюща, где потайные скобы вели в теплую постель, в уютные комнаты, закурил и сказал:
— Я знаю тебя. По тебе видно, что ты невиновен. Ты ничего не украл.
— Ага.
— Так почему же ты сказал полицейским, что украл?
— Потому. Мисс Фоули — невесть почему — хочет нас выставить виновными. Раз она так говорит, стало быть, так и есть. Ты видел, как она удивилась, когда мы влезли в окно? Ей в голову не приходило, что мы сознаемся. А мы сознались. Мы нажили достаточно врагов, не хватало еще представителей власти. Я подумал — если мы чистосердечно признаемся, нас не станут наказывать. Так и вышло. Вот только одно: мисс Фоули тоже выиграла, потому что теперь нас считают преступниками. Никто не поверит нашим словам.
— Я поверю.
— Поверишь? — Вилл исследовал взглядом тени на отцовском лице, белизну его кожи, волос, глазных яблок.
— Пап, прошлой ночью, в три часа…
— В три часа…
Отец вздрогнул, как от холодного ветра, как будто почуял, знал, о чем речь, и не было сил двинуться, протянуть руку, коснуться Вилла, погладить его.
И Вилл понял, что ничего не скажет. Может быть, завтра, может, в другой какой-нибудь день, если с восходом солнца окажется, что шатры исчезли, уродцы разъехались, оставив их в покое, сознавая, что достаточно напугали их, так что они не будут стоять на своем, ничего не станут говорить, будут помалкивать. Может быть, пронесет, может быть… может быть…
— Ну, Вилл? — выговорил отец, сжимая в руке потухшую трубку. — Продолжай.
«Нет, — сказал себе Вилл, — пусть нас с Джимом разорвут на клочки, пусть нас, но больше никого. Всякий узнавший страдает от этого. Так пусть больше никто не узнает».
Вслух он сказал:
— Через два дня я все расскажу тебе, папа. Клянусь матерью.
— Такая клятва, — ответил отец не сразу, — меня устраивает.
Глава двадцать восьмая
Ночь благоухала тленом осенней листвы, пахло так, словно за городом вырастали дюны мельчайших песков Древнего Египта. «Почему это, — спрашивал себя Вилл, — в такое время я еще способен думать о парящем над миром четырехтысячелетием прахе древних народов, и мне грустно оттого, что никто, кроме меня и, возможно, моего папы, не думает о нем, но и мы не говорим об этом».
Царило поистине какое-то промежуточное время, и мысли их уподоблялись то косматому эрделю, то сладко дремлющей шелковистой кошке. Время ложиться спать, а они все медлили, точно мальчишки, не желали сдаваться и брести широкими кругами к подушкам и ночным думам. Время сказать многое, но не все. Время после первых открытий, но не вслед за последними. Желание все узнать и желание не знать ничего. Отрадное новое чувство людей, начавших говорить так, как следует говорить. Предчувствие горечи откровения.