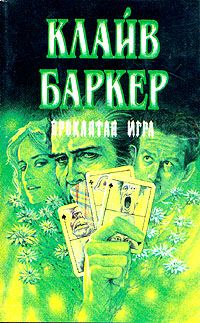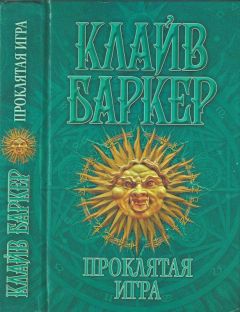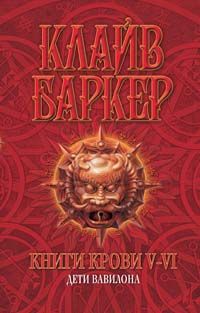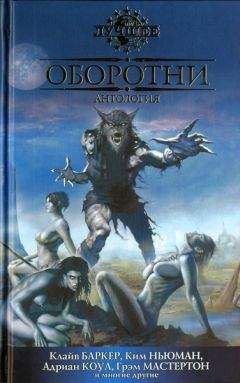Клайв Баркер - Проклятая игра
III
Последний Европеец
18
Энтони Брир, Пожиратель Лезвий, вернулся в свою крошечную квартирку поздним днем, сделал себе растворимый кофе в своей любимой чашке, затем сел на стол и под падающим светом принялся вязать себе петлю. Он знал с самого раннего утра, что сегодня тот самый день. Ему нужно было спуститься в библиотеку; если со временем они заметят его отсутствие и в тщетной попытке узнать, где он, напишут ему, то он не сможет ответить. За окном небо выглядело таким же грязным, как и его простыни, и, являясь рациональным человеком, он думал: зачем утруждать себя стиркой простыней, когда мир так грязен, и я так грязен, и нет ни малейшего шанса, чтобы очистить хоть что-нибудь? Наилучший выход — это положить конец этому мерзкому существованию раз и навсегда.
Он достаточно видел повешенных. Конечно, только на фотографиях в книге, которую он украл с работы о военных преступлениях, на ней была отметка «Не для открытых полок. Выдается только по требованию». Предупреждение дало ему пищу для воображения: вот книга, которую люди не слишком хотели видеть. Он бросил ее в сумку, не открывая, зная из самого названия — «Советские документы о зверствах нацистов», — что эта книга почти так же сладка при предвкушении, как и при чтении. Но в этом он ошибался. Слюноотделение в тот день от сознания того, что в его сумке лежит эта запрещенная книга, это восхищение не имело ничего общего с тем откровением, которым стала для него сама книга. Там были фотографии сожженных руин чеховского дома в Истре и оскверненной резиденции Чайковского. Но, в основном — и это было наиболее важным — там были фотографии мертвых. Одни были похоронены под обломками, другие лежали на кровавом снегу, заледеневшие. Дети с раздробленными черепами, люди, лежащие в траншеях и застреленные в лицо, люди с вырезанными на груди и ягодицах свастиками. Но для прожорливых глаз Пожирателя Лезвий лучшими фотографиями были фотографии повешенных. Среди них была одна, на которую Брир смотрел очень часто. Это была фотография красивого молодого человека, удавленного на импровизированной виселице. Фотограф уловил последний момент его жизни — повешенный смотрел прямо в камеру с болезненной и блаженной улыбкой на лице.
Брир хотел, чтобы именно это выражение они обнаружили на его лице, когда они сломают дверь этой комнаты и найдут его, чуть покачивающимся от сквозняка. Он думал, как они, должно быть, уставятся на него, как начнут кудахтать, качать головами, поражаясь его бледным ступням и тому, как он отважился на такую ужасную вещь. И пока он думал, он завязывал и развязывал петлю, стараясь выполнить эту работу с максимальным профессионализмом.
Его единственным беспокойством была исповедь. Несмотря на то, что день за днем он работал с книгами, он был не слишком силен в словах: они ускользали от него, как красотка из его толстых рук. Но он хотел сказать что-нибудь о детях, просто чтобы они знали, эти люди, которые найдут его и сфотографируют, что он был не просто некто, на кого они будут глазеть, а человек, совершивший худшие вещи в мире из лучших возможных побуждений. Это было жизненно важно: чтобы они знали, кем он был, потому что со временем они, возможно, смогут найти в нем тот смысл, который он сам никогда не мог выразить.
У них, конечно, были методы допросов даже мертвых людей. Они положат его в холодной комнате и быстро осмотрят, и, когда они изучат его снаружи, то начнут изучать его изнутри и о! какие вещи они найдут. Они снимут крышку черепа и вынут его мозг, исследуя его множеством способов, пытаясь выяснить что с ним и как. Но это не сработает, не так ли? Он-то должен знать об этом. Ты разрезаешь вещь, которая жива и прекрасна, чтобы узнать какона живет и почемуона прекрасна, и, прежде чем ты узнаешь об этом, она уже не является ни той и ни другой, и ты стоишь с кровью на лице и слезами в глазах, и остается только ужасающая боль вины. Нет, они ничего не получат от его мозга, им придется влезть поглубже. Им придется разрезать его от горла до паха, вынуть его ребра и вставить их обратно. И только когда они распутают его кишки и пороются в его животе и в его печени и легких, там, о да, там они найдут достаточно того, на что можно было бы полюбоваться.
Может, это и будет лучшей исповедью, подумал он, перевязывая петлю последний раз. Нет нужды подбирать и использовать слова, поскольку, что, собственно, есть слова? Мусор, бесполезный для самой сути вещей. Нет, они найдут все, что им нужно знать, только заглянув внутрь его. Найдут историю пропавших детей, найдут славу его мученичества. И они узнают раз и навсегда, что он был из Племени Пожирателей Лезвий.
Он закончил со своей петлей, приготовил себе вторую чашку кофе и начал трудиться над надежностью крепления веревки. Сначала он снял лампу, висевшую в центре потолка, и привязал петлю на ее место. Петля держалась крепко. Он повисел на ней немного, чтобы убедиться в этом.
Был уже ранний вечер, он устал, и утомление делало его более неуклюжим, чем обычно. Он прошелся по комнате, приводя ее в порядок, его толстое свиное тело испускало вздохи, когда он снимал грязные простыни и убирал их; допил кофе и осторожно вылил молоко, чтобы оно не скисло к тому моменту, когда они придут. Затем он включил радио, оно поможет заглушить звук отброшенного стула, когда придет время: в доме были еще люди, и он не хотел никаких отсрочек в последнюю минуту. Комнату заполнили обычные банальности с радиостанции: песни о любви и потере, и любви, обретенной вновь. Какая все это ужасная и мучительная ложь.
Последние лучи света еще проникали в комнату, когда он закончил приготовления. Он слышал шаги в коридоре и звуки повсюду открывающихся дверей — жители возвращались с работы домой. Они, как и он, жили в одиночестве. Он никого из них не знал по имени; никто их них, видя как его забирают с полицией, не будет знать его имени.
Он полностью разделся и вымылся в раковине, его яички, маленькие, как орешки, плотно прижатые к телу, пузырь его живота, жирная грудь и толстые плечи дрожали, когда холод охватил его. Однако удовлетворенный своей чистотой, он сел на край матраса и подстриг ногти на руках и ногах. Затем он надел свежевыстиранную, накрахмаленную одежду — синюю рубашку и серые брюки. Он не стал одевать ни носков, ни обуви. В его телосложении, которое всегда смущало его, только ноги были предметом его гордости.
Было уже почти темно, когда он закончил, и наступала черная дождливая ночь. Пора, подумал он.
Он тщательно установил стул, встал на него и дотянулся до веревки. Петля висела, пожалуй, высоковато, и ему пришлось встать на цыпочки, чтобы натянуть ее вокруг своей шеи, но, после некоторых маневров, он полностью ее приладил. Как только он почувствовал, что узел начинает врезаться в его кожу, он прочел свои молитвы и оттолкнул стул.