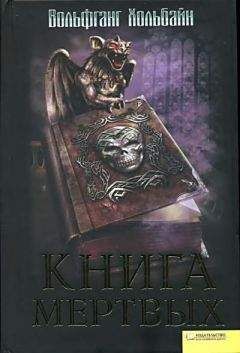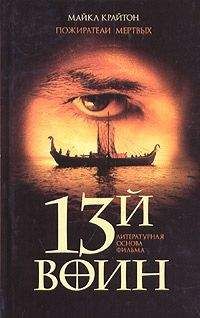Танит Ли - Убить мертвых
Дро не отвел взгляда, даже не моргнул, лишь произнес одними губами:
— Я в самом деле так думаю.
— Раз так, я удаляюсь, — с горькой иронией сказал Миаль. — Я всегда понимаю, когда мне не рады.
— Смею думать, ты всю жизнь только и делаешь, что удаляешься.
Кипя от бессильной злости, Миаль развернулся на пятках, шагнул прочь — и с размаху врезался в дерево.
Потирая ушибленное место, он шел вдоль края лощины, пока не оказался достаточно далеко, чтобы Дро не мог его видеть. Менестрель опустился на землю около большого валуна, создававшего немного укрытия и придававшего немного уверенности. Он обнял свой загадочный инструмент и свернулся калачиком. Земля становилась все более холодной и такой безмолвной, что это даже завораживало.
Так он лежал, маленький и одинокий в бескрайней ночи, придумывая, какую резкость сказать в ответ Парлу Дро, и ругал себя и свою стезю за все беды, что обрушивала на него жизнь.
Когда он уснул, ему приснилось, что глиняный пес, подарок Синнабар, выбрался из его кармана и принялся лаять и резвиться на лугу. Песик бегал и прыгал, пока случайно не наскочил на камень. Красная кровь потекла из глиняного тельца, и Миаль разрыдался во сне. В поисках утешения его руки нащупали струны и стали наигрывать мелодию. Это была та самая песня, которую он сочинил для Сидди Собан.
Если бы Парла Дро мучила совесть, он мог бы утешаться тем, что безумный менестрель, скорее всего, не ушел дальше, чем на сотню футов. Но Дро был не из тех, кто склонен испытывать угрызения совести. С тринадцати до пятнадцати лет он ходил по самым разным краям и дорогам, нанимаясь то пастухом, то батраком на ферму, то носильщиком, то охранником каравана, и выработал свои собственные способы выживания. У Миаля Лемьяля, судя по всему, жизнь была не менее тяжелая, опасная и саморазрушительная. Его способы оставаться живым отличались от тех, которыми пользовался Парл Дро, однако работали. Дро относился к способностям Миаля с куда большим уважением, чем мог предположить музыкант. А времени у него оставалось куда меньше, чем в самых страшных подозрениях Миаля. Не то чтобы он настолько не мог терпеть менестреля, но у Дро давно вошло в привычку держаться подальше от людей. Порой он изменял этой привычке — на день или на ночь, время от времени. Но путешествовать он привык в одиночестве. Привык, что никто не смотрит на него, только он сам — безжалостно и непримиримо.
В пятнадцать лет, когда он еще не вполне потерял способность некоторое время поддерживать компанию и непомерно напиваться, Парл Дро поспорил на фунт серебра, что проведет ночь в амбаре, где водился призрак. Временами он делал подобные вещи ради денег, хотя и без взращенного позже презрения. Все эти два года нечто в его душе отчаянно не хотело признавать, что ночь, когда Шелковинка вернулась к нему под обугленной яблоней, была на самом деле. В свои пятнадцать лет он не верил в призраков.
Парл разлегся на соломе, время от времени прикладываясь к бурдюку, которым снабдили его спорщики, в слабом свете масляной лампы — им не удалось подбить его сидеть всю ночь в темноте. Перед самым закатом хозяева показали ему место, где призрак возникал из ниоткуда. И еще они показали Парлу обугленную перчатку, прибитую к полу. Обнаружив некоторые познания, они тыкали пальцами в перчатку и говорили: «Вот почему оно приходит». Кто-то рассказал, как однажды некий человек пытался уничтожить перчатку, бросив ее в костер. Но как только пламя опалило ее большой палец, тому человеку стало смертельно плохо, и он вытащил перчатку из огня, прежде чем сам понял, что делает. Теперь они хвастались, что у них в амбаре обитает неупокоенный. Последний человек, согласившийся на этот спор, уверяли они Парла, наутро вышел отсюда совершенно безумным. Парл кивал и улыбался. Он думал, что его разыграют, но не ждал ничего сверхъестественного. Валяясь на соломе, он думал о мешке серебра, который, как он себя убедил, очень ему пригодится, и не обращал внимания на запах страха, пропитавший весь амбар. А в полночь явился призрак.
В нем не осталось ничего человеческого, хотя он уже был объемным и не проходил сквозь предметы. Его тело было таким, каким сделала его смерть, что было необычно, а в данном случае еще и на редкость отвратительно, потому что убийцы разрубили его на куски. Он явился из воздуха, визжа от боли, — кожа свисает клочьями, глаза выколоты.
Первым побуждением Парла, как всякого человека на его месте, было — бежать сломя голову. Но что-то его не пустило. Он обнаружил что бредет, шатаясь, к тому месту, где лежала перчатка. Ужасное, визжащее, безглазое создание вслепую двинулось за ним. Но за миг до того, как призрак на него наткнулся, Парл швырнул бурдюк, который все это время держал в руках, в свисающую с гвоздя лампу.
Стекло разлетелось вдребезги, горящее масло и вино выплеснулось на солому. В несколько секунд огонь объял амбар, дым и гул пламени заполнили его. Неупокоенный, которому удалось схватить юношу, кричал и прижимал его к своим отвратительным ранам, из которых продолжала течь кровь. Парл мог сгореть заодно со связующей перчаткой, если бы не его необычайная внутренняя сила. До поры до времени она оставалась скрытой, хотя была в нем сильнее, чем телесная мощь, чем рассудок, чем голод, страсть, самомнение или страх. В ту ночь лишь благодаря этой силе ему удалось отпихнуть от себя воющего и рычащего мертвеца.
Несколькими мгновениями позже вспыхнула перчатка, и вопли неупокоенного стихли. Сведенные судорогой черты безглазого лица вдруг разгладились, словно ушла беспощадно терзавшая его боль. Он стал прозрачным и растаял, как дым. А Парл Дро вылетел из амбара и нырнул в подлесок, как такса в лисью нору.
Когда он вскарабкался на какой-то склон, то обернулся и увидел черные силуэты людей, пляшущие на фоне огня — они пытались потушить амбар. Парл так и не получил от них серебра, только дурную славу поджигателя, да лишний раз убедился на собственном опыте, что мертвый не всегда бывает мертв...
Огонь — не тот, что пожирал амбар в воспоминаниях Дро, а ручное пламя костра, обложенного камнями — догорал. Охотник потянулся, чтобы подбросить еще хвороста, и замер: чуть дальше по краю лощины заиграл менестрель.
Дро сидел, забыв про охапку хвороста в руках, и слушал. Прекрасные звуки переплетались в темноте, как шелковые нити. Трагическая, таинственная мелодия наполнила сердце пронзительной сладкой печалью, далекой и в то же время близкой. Как любое творение превосходного менестреля, музыка Миаля Лемьяля открывала чувства, которых прежде не водилось в душе слушателя, взращивала их — пока звучит песня.
Но Миаль был больше, чем просто превосходным менестрелем. Когда он играл на своем причудливом инструменте, ради которого его отец убил человека, то становился одним из забытых золотых богов, вернувшимся на землю впервые с тех пор, как минула юность мира.