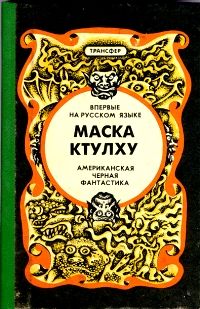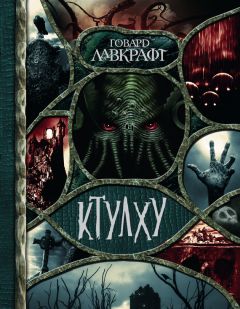Говард Лавкрафт - Мифы Ктулху
Не скажу, что письмена Черного Камня были так уж сходны с зарубками на исполинской юкатанской скале, но чем-то неуловимо напоминали друг друга. Что до материала монолита — тут я вновь оказался в тупике. Камень, черный в буквальном смысле, тускло поблескивал, и там, где поверхность не была сколота и выщерблена, возникала странная иллюзия полупрозрачности.
Я пробыл там едва ли не до полудня и ушел глубоко озадаченным. Никакой связи между Камнем и каким бы то ни было артефактом мира я не усматривал. Казалось, монолит возведен пришельцами из иных миров в далекую, неведомую людям эпоху.
Я вернулся в деревню. Любопытство мое нимало не угасло. Теперь, когда я увидел диковину своими глазами, во мне еще больше разгорелось желание исследовать загадку подробнее: мне отчаянно хотелось знать, что за странные руки и ради какой странной цели воздвигли Черный Камень в незапамятные времена.
Я отыскал племянника трактирщика и расспросил его о снах, но тот ничего толком не прояснил, хотя искренне пытался мне помочь. Поговорить о снах он не возражал, но был не в состоянии описать их хоть сколько-нибудь внятно. Кошмары ему являлись одни и те же, причем пугающе-яркие, однако четкого отпечатка в бодрствующем сознании они не оставляли. Запомнились ему лишь хаотические ужасы: гигантские кружащиеся огни выстреливали языками жгучего пламени и неумолчно рокотал черный барабан. Одно только глубоко врезалось ему в память: в одном из снов он видел Черный Камень не на горном склоне, но на вершине исполинского черного замка, на манер шпиля.
Что до прочих деревенских жителей, они вообще не склонны были говорить о Камне, за исключением одного только школьного учителя — человека на диво образованного, который бывал в большом мире куда чаще, нежели все его земляки.
Учитель живо заинтересовался комментариями фон Юнцта по поводу Камня и с жаром согласился с немецким ученым насчет предполагаемой датировки монолита. Сам он считал, что в окрестностях деревни некогда обосновался ведьминский ковен и что, возможно, все исконные жители деревни встарь являлись служителями культа плодородия, который некогда грозил подорвать основы европейской цивилизации и породил немало россказней о колдовстве. В качестве доказательства учитель сослался на само название деревни: изначально она называлась не Штрегойкавар. Если верить легендам, основатели дали ей имя Ксутлтан — так испокон веков называлось место, на котором отстроили поселение много столетий назад.
Этот факт вновь пробудил во мне смутную, не поддающуюся описанию тревогу. Варварское имя явно не имело отношения ни к скифской, ни к славянской, ни к монголоидной расам, к которым аборигены здешних гор в естественных обстоятельствах принадлежали бы.
Не приходится сомневаться, что венгры и славяне низин верили, будто исконные обитатели деревни были причастны к колдовскому культу, — судя уже по названию, ими данному, говорил учитель. А ведь название осталось в обиходе даже после того, как коренных жителей вырезали турки, а деревню отстроил народ более цивилизованный и порядочный.
Учитель не верил, что монолит воздвигли именно служители культа, но полагал, что они использовали монолит как центр своих сборищ. Пересказав смутные легенды, дошедшие из глубины времен еще до турецкого вторжения, он выдвинул теорию, что выродившиеся селяне превратили его в своего рода алтарь для человеческих жертвоприношений, а жертвами служили девушки и дети, похищенные у его собственных предков из низин.
От мифов о странных происшествиях в ночь середины лета он отмахнулся, равно как и от любопытной легенды о загадочном божестве, которого шаманы Ксутлтана якобы призывали с помощью песнопений и разнузданных ритуалов, включающих в себя самобичевания и смертоубийства.
Сам он никогда не бывал у Камня в ночь летнего солнцестояния, но пойти не побоялся бы, уверял учитель. Чего бы уж там ни существовало и ни происходило в прошлом, все это давно поглотили туманы времени и забвения. Черный Камень утратил свое значение, он — всего-навсего связь с прошлым, а прошлое мертво и занесено пылью.
Однажды вечером, спустя неделю после моего приезда в Штрегойкавар, я навестил учителя и уже по дороге обратно внезапно вспомнил: а ведь сегодня — ночь середины лета! Именно эту пору жутковатые намеки в легендах связывают с Черным Камнем. Я повернул прочь от таверны и стремительно зашагал через деревню. Штрегойкавар безмолвствовал: деревенские жители ложились рано. Не встретив по пути ни души, я довольно скоро вышел из деревни и углубился в еловый лес: ели одевали горные склоны нездешним светом и чернотой протравливали тени. Ветра не было, но повсюду слышались загадочные, неуловимые шорохи и перешептывания. Несомненно, именно в такие ночи много веков назад, как подсказывало мне прихотливое воображение, через здешнюю долину проносились нагие ведьмы верхом на волшебных метлах, а за ними — хохочущие демоны-фамильяры.
Я дошел до утесов и не без трепета душевного заметил, что обманчивый лунный свет неуловимо их преображает. Ничего подобного я прежде не замечал: в нездешнем сиянии скалы куда меньше напоминали камни естественного происхождения и больше смахивали на развалины бастионов, некогда воздвигнутых циклопами и титанами на склоне горы.
С трудом отрешившись от навязчивой галлюцинации, я поднялся на плато и, мгновение помешкав, нырнул в густую темноту лесов. Над тенями нависла напряженная тишина, словно незримое чудовище затаило дыхание, дабы не спугнуть добычу.
Я прогнал это ощущение — вполне естественное, принимая во внимание жуткую атмосферу места и его недобрую репутацию, — и зашагал через лес, не в силах избавиться от пренеприятного чувства, что за мной кто-то идет. Один раз я даже остановился — и готов поклясться: что-то холодное, влажное и зыбкое задело в темноте мою щеку.
Я вышел на поляну, к монолиту, туда, где над поляной вознесся его удлиненный, вытянутый силуэт. На опушке леса со стороны утеса лежал Камень — самой природой предоставленное сиденье. Я сел, размышляя, что именно здесь, вероятно, безумный поэт Джастин Джеффри написал свою фантастическую поэму «Народ монолита». Хозяин таверны считал, что именно Камень стал причиной сумасшествия Джеффри, но семена безумия были посеяны в мозгу стихотворца задолго до того, как он приехал в Штрегойкавар.
Я глянул на часы: до полуночи оставалось всего ничего. Я откинулся назад, дожидаясь призрачных манифестаций, уж какими бы они ни были. Легкий ночной ветерок всколыхнулся в ветвях елей — зловещим намеком на тихие незримые свирели, нашептывающие нездешнюю, недобрую мелодию. Я не сводил глаз с монолита; в сочетании с монотонным звуком это сработало для меня своего рода самогипнозом — накатила дремота. Я пытался совладать с сонливостью, но тщетно: сон подчинил меня себе, монолит словно заколыхался, затанцевал, очертания его до странности исказились — и тут я уснул.