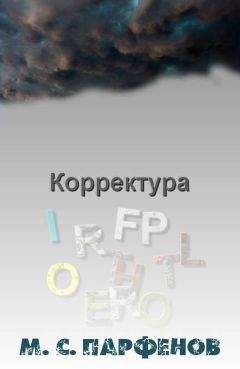"Самая страшная книга-4". Компиляция. Книги 1-16 (СИ) - Парфенов Михаил Юрьевич
«Не шевелись, – шепнул в черепной коробке голос покойного Лемберга. – У большинства змей слабое зрение, они реагируют на движущиеся объекты».
Наталка замерла, скованная ужасом. Но движущийся объект появился из-за спины. Кусты захрустели, осыпаясь ягодами. Тень накрыла Наталку, мужская ладонь заблокировала рот. Лаборантка села задницей в лужу, а щитомордник молниеносно выбросил голову и укусил за бедро.
Наталка мычала в кляп. Из дерна, как «макароны» фарша из мясорубки, вылезали гадюки. Они жалили голые икры, ляжки, ягодицы, впрыскивали в плоть яд. Наталка сучила китайскими кроссовками, комкая мох. Человек не позволял ей встать.
Ступни Наталки выгнулись, как у балерины – Cou-de-pied, – в юности она боготворила Майю Плисецкую. Щитомордник прополз между ног, и она ощутила сквозь пламя невыносимой боли холодное, почти успокаивающее прикосновение к половым губам.
Укуса она уже не почувствовала.
– Эй ты! – Пехотный офицер Субботина поторопила вороную лошадку, догнала ковыляющего солдата. – Ты, тебе говорю! Живой?
Тощий и взлохмаченный эстляндец шатался под весом пятидесятифунтового вьюка. Бывший унтер, разжалованный до рядового за шашни с поварихой, он обвел всадницу осоловевшим взглядом, словно бы не узнал.
– Отец… – Спаянные губы треснули. – Голубчик, ноженьки болят.
– Терпи, – сказала офицер; как и этот молодой солдат, она впервые участвовала в степном походе, впервые топтала подошвами туркестанских сапог выжженную землю Средней Азии. – Две версты осталось.
– Две, – улыбнулся эстляндец, чья кожа почернела от палящего немилосердного солнца.
Семь часов в седле… семь часов под голубым небом забытого чертом края… Субботина мысленно осмотрела себя глазами доходяги-эстляндца. Стройная девица, красующаяся на лошади. Кавалеристский карабин за спиной, ушитый мундир, шашка в ножнах. Слабый ветерок колышет полотняный назатыльник кепи. Верно, думает эстляндец, почему она здесь, а не под крылышком у муженька?
Субботина оглядела колонну. Лошади и верблюды едва плелись. Кибитки, затянутые кошмой, скрипели рессорами. Вокруг простирались на многие версты песчаные барханы, иссеченные кое-где белыми солончаками. Песок и соль, и больше ничего. Десять миллионов десятин «ничего». А под этой тоскливой желтизной, говорят местные, темница, в ней отбывает наказание шайтан, и жар от его помыслов губит все живое, даже неприхотливый саксаул.
– Положительно ужасная погода, – изрек гардемарин флота Черников. Дареная черкеска верблюжьего сукна превосходно сидела на его поджарой фигуре.
В пустыне погребально завывали шакалы.
– Почти на месте! – подбадривала Субботина рядовых. Солдаты сосредоточенно двигали ногами в поршнях из бараньей кожи. Сотник таманского полка, коренастый, пропахший пороховым дымом Ванягин послал на разведку казачий разъезд. Проверяли балки – не притаились ли там бандиты. Вот-вот загорланят из пыльного облака: «товсь!», «пли!». И полезут, как гадюки, чекинцы с изъеденными волчанкой харями.
– Чисто, – докладывали казаки.
На горизонте вздымался лиловый хребет Копет-Дага. Шел июнь тысяча восемьсот восьмидесятого.
– Упал! Упал! – крикнули в арьергарде.
Субботина развернула лошадь. Версты, пройденные с утра, были простой разминкой перед настоящими трудностями, и она не уставала напоминать себе об этом.
У остановившегося ротного фургона лежал солдатик, называвший Субботину «отцом». Глаза его выпучились и остекленели.
– Умер, – заключил фельдшер, пряча бестолковую тряпку, смоченную нашатырным спиртом. Нашатырем мертвых не воскресить.
Сотник Ванягин бегло перекрестился.
– Грузите в фургон.
Труп накрыли марлей, погрузили, пошли дальше, по барханам, к долгожданному привалу. Сорок градусов жары. Двадцать три версты. Двадцать четыре…
– Вон она, – сказал поравнявшийся с Субботиной гардемарин Черников. Год назад он ходил из Чикишлада в Бами и ночевал на Черной Горе.
– Хвала небесам.
Казаки подозрительно озирали скалы, целились в собственные текущие по песку тени. Горнист сыграл «стой», и колонна замерла. Солдаты посыпались на песок – минутку передохнуть.
– Теперь в гору, – командовали офицеры, – коли супу и спирта жаждете.
Упоминание о еде и питье расшевелило утомленных ратников. Они вставали, помогая друг другу, опираясь на берданки. Верблюдовожатые ругали животину. В ранах кораблей пустыни кишели жирные личинки.
– А змей тут много? – спросила Субботина.
– Как вшей, – сказал Черников.
Внизу простиралась долина. Сочная зелень после набившей оскомину желтизны. Гниющий в ручьях тростник вонял сероводородом, порчеными яйцами. Джигиты, мирные туркмены, пасли скот. Там прошлым летом русские герои, идущие из Ходжа-Колы, сражались с бандитскими шайками. Отбили долину и заложили укрепление на высоте тридцати саженей.
– Целиком барана слопаю, – сказал сотник Ванягин, когда экспедиция взошла на скалу и присоединилась к размещавшейся здесь роте. Укрепление состояло из траншеи, скопления палаток и кибиток и редута на две медные картечницы. Выше, где утес выступал килем, караулил пикет. Пока новоприбывшие размещались под присмотром унтеров, офицеры в количестве трех человек отправились поприветствовать коменданта.
За главного был майор Скрипников Иван Михайлович. Он попыхивал трубкой-стамбулкой и часто сплевывал в серебряную сухарницу. Грудь украшал орден Святого Владимира второй степени.
Гости привезли новости из тыла и свежую прессу. Майор пригласил их за стол в комендантском шатре.
– На молитву! – надрывались унтеры. – Шапки долой!
При свете огарков заискрились аппетитно бутылочки с коньяком и водкой, кахетинским вином; денщик майора и денщики вымотанных офицеров озаботились пищей для господ. Подали плов с изюмом и черносливом, сардины, потом – шашлыки.
– Кто ж у вас такое мясо делает? – замлел гардемарин.
– Наташка, – горделиво сказал комендант, – золотые руки, мы ее в фельдфебели произвели.
– Переперчено, – проворчал казачий сотник, вытирая жирные пальцы о штанину.
– Не обращайте внимания, – с набитым ртом сказал гардемарин Черников. – Ванягин наш нрава скверного, но сердца доброго.
– Сам ты! Матрос без суденышка!
Пили, чокались, пили. Снаружи пили тоже – но дешевле, меньше и кислее – солдатики. Приехавший с ротой армянин продавал по разумной цене колбасу и фрукты. Казаки курили люльки, взгромоздившись на холщовые мешки с написанными ваксой инициалами, перемешивали пальцами горящий табак. Пускали по кругу деревянные баклажки. Вольноопределяющиеся спорили у коновязи о Вольтере. Фейерверкер спал, уронив голову на зарядный ящик, может, снился ему «Егорий» за военную доблесть. Крикливые персы ставили верблюдов на колени, вязали передние ноги, а верблюды ревели недовольно.
– Хорош барашек, – хвалил в шатре гардемарин.
– Хорош, – согласился комендант, вгрызаясь крепкими зубами то в мясо, то в черешневый чубук трубки, – но я бы его на судака сменял. Ох, сладок судак в сметане, со сливочным маслом, с петрушкой.
– А я бы, – гардемарин отмахнулся от надоедливой мухи, – все променял на материнский хлеб. Не ели вы такого хлеба, друзья.
– Вам бы и за сытным столом о жратве мечтать, – осудил кавалерист-казак чревоугодие. – Мне вот всего хватает, окромя прачки. – И он обнюхал свою рубаху.
– Небось, – усмехнулся Черников, – прачка тебе надобна румяная и молодая. Наслышаны про твои приключения!
– Румяные стирают лучше! – хохотнул Ванягин, доставая пеньковую трубку с длиннейшим чубуком.
– Греховодник вы, казак!
Гардемарин курил «Беломор». Субботина же вынула табакерку из черепахового панциря и сделала понюшку табака a la rose. Громко чихнула. Офицеры засмеялись. У Субботиной почему-то заболел мизинец.
Сизое марево густело под палаточным сводом. Где-то пел хриплый русский солдат:
– Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому по краю, я коней своих нагайкою стегаю, ох, погоняю…