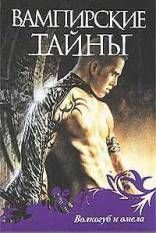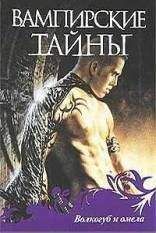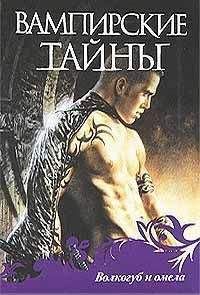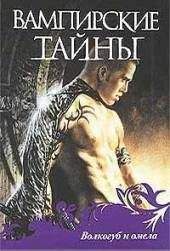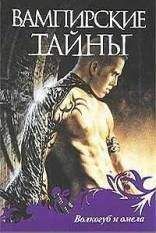Шарлин Харрис - Волкогуб и омела
— И ты меня оживил — зачем? — взревел Маттиас. — Чтобы я стал сиротой, которого все ненавидят? Ругают, что выжил, когда родители погибли? Перебрасывают из приюта в приют? Чтобы мучился от нищеты и голода? Это и был твой дар — единственный дар, могу заметить! За все эти годы ты мне ни разу ничего не подарил!
Олени шарахнулись от разъяренного вервольфа, сбиваясь в кучку.
Святой Николай поднял руки, успокаивая оленей, потом нахмурился и посмотрел на Маттиаса:
— Ты их не получал? Я тебе каждый год приносил. Мелочи, конечно, но я думал, ты поймешь. Я не мог их делать слишком заметными, но они были. У тебя всегда ботинки были по ноге. Красное пальтишко тебе на пятилетие с пожарной машинкой в кармане…
— Не было у меня пожарной машинки! И красного пальтишка тоже не было! — Олени вздрагивали от испуга, сани пошатывались от яростных рывков Маттиаса. — Ботинки жали и текли. Монахини меня били линейкой по рукам до крови, и каждый день все мы ложились спать голодными, кроме сочельника, когда нам люди приносили ненужную им еду! Ты меня воскресил и бросил жить в аду. Что ты за святой после этого?
Святой Николай посмотрел на Черного Питера:
— А ты что на это скажешь?
Каратель плохих детей только покачал головой, но в красных глазах мелькнул огонек.
— Мы к этому еще вернемся, Черный Питер, помяни мое слово.
Санта отвернулся, обнял яростного вервольфа, шепча ласковые слова, успокаивая. Маттиас рвал человека в красном зубами и когтями, выл и рычал от гнева и отчаяния, но раны от его клыков заживали тут же.
Наконец вервольф в изнеможении опустил голову на снег. Санта-Клаус сел рядом.
— Маттиас, мне очень, очень жаль. Но я могу спасти дитя только однажды, после этого оно должно спасать себя само. Ты был хорошим мальчиком, и я не могу понять, почему ты стал плохим. Потом ты перестал быть ребенком, и я долго, очень долго не знал, что с тобой сталось. У меня много есть еще обязанностей, помимо Рождества, я покровитель многих вещей, и, наверное, я упустил тебя из виду. Но ты не был ни моряком, ни пекарем, ни узником, и ты не думал держать лавку или переехать в Грецию. Ни одна из моих сфер влияния не могла быть тебе полезной, и я сам был виноват, что смотрел недостаточно внимательно. Но сегодня ты оказался здесь, и у меня появилась еще одна возможность. Я пытался тебе помочь. И вот, Маттиас, сейчас мне нужна твоя помощь.
— Не хочу я тебе помогать. И «рождественская радость» на мне уже выдохлась, — буркнул Мэтт.
— Но разве не понравился тебе бег по ночному небу?
Вообще-то да, и очень. Но Мэтт только пожал плечами, не доверяя этому красношубому мошеннику.
— Ты и правда хочешь бросить здесь сани и оленей? И расстроить всех детей по всему свету, которых я должен был посетить? Разве это справедливо?
Мэтт заворчал. Ему плевать было… плевать вот, и все. Но еще чуть побегать по ночному небу…
— Не знаю. Ты со мной не очень справедливо обошелся. Что я за это получу?
Видно было, что Наезднику это не понравилось, но Мэтт понял, что сейчас держат его за шкирку. Восход солнца близился, и терминатор подкрадывался неумолимо. Если епископ мирликийский хочет оказаться дома до света, ему придется договариваться.
Святой Ник еще раз вздохнул и встал.
— Ладно. Ты меня держишь под дулом пистолета, Маттиас. Каковы твои условия?
Вервольф сел, опустил вздыбленную шерсть, чуть пригладил ее, потягивая время. Потом сказал:
— Я хочу рецепт «рождественской радости».
— «Рождественской радости»? Но она только раз в году действует.
— Меня устраивает. Вполне согласен бегать по небу только раз в год. Это неплохо.
— И это все?
— Да… ну, и еще указание, как выбраться с северного полюса. Дурацкое место.
Санта погладил бороду:
— Хорошо, договорились. Если ты доставишь нас в Дом Рождества еще до рассвета.
— И чтобы рецепт действовал!
— Гарантирую, что будет — слово Отца Рождество. Но помни: только в сочельник.
— Годится. — Вервольф встал, отряхнулся. — Добавь сейчас «рождественской радости» и поехали!
Еще пригоршня волшебной пыли сверкнула при звездах, святой Николай пробормотал волшебные слова, человек в красном и его черный слуга устроились в санях, и Мэтт с оленями тронули с места.
И снова летели, уходя от рассвета, к домам, полным хороших спящих детей, и каждый раз, останавливаясь, Мэтт внимательно смотрел, что делает Пер Ноэль. Он подносил к лицу руку в перчатке, что-то говорил и исчезал в вихре рождественской магии.
Наконец Маттиас спросил:
— А как ты это делаешь? В печную трубу пролезаешь, в смысле? Как ты входишь и выходишь?
— Мэтти, на долгие разговоры времени нет. Мы уже и так опаздываем.
— Я никуда не опаздываю. И не спешу.
— Ладно, расскажу. Когда я произношу нужные слова и принимаю щепотку «рождественской радости», я могу пройти через что угодно: потому что сам на несколько минут становлюсь Духом Рождества. Это длится очень недолго, и мне приходится торопиться или повторять заклинание.
— А! Так вот что этот поэт имел в виду в своей «Ночи перед рождеством»! Я думал, он говорит, что ты ему подмигивал.
— «Этот поэт»… А, ты про Клемента Мура, который написал «Посещение св. Николая». Да-да… «Приставив палец к носу»… Да, это оно.
— Фу! Вдыхать крошки от печенья ноздрей! — Мэтта передернуло. — Противно.
Хотя совсем не так противно, как некоторые вещи, которые он проделывал в волчьем образе. И Мэтт осклабился самодовольной волчьей усмешкой. Все было так, как он и думал.
— Ну, эта работа — не сплошная глазурь на торте, Мэтти.
То ли показалось, то ли вправду святой старик показался усталым и морщинистым? Да нет, не мог Санта брюзжать. Ему полагается быть всегда веселым. Но уже было очень поздно, и олени плелись едва-едва. Мэтт заметил, что они давно оставили попытки укусить его и тянули вместе с ним охотно, не ради демонстрации силы или злости. Может, они даже уже к нему привыкли.
Мэтт пожал плечами, подождал щелчка бича и подергивания вожжей, говорящих, что пора двигаться, и снова вихрем лап и копыт упряжка поднялась в воздух.
Когда они закончили объезд, краешек солнце выглядывал уже из-за горизонта, как пожар в прерии. Святой Николай резко направил упряжку на север и погнал изо всех сил в полярную тьму. И они понеслись, будто спасаясь от смерти, понеслись по воздуху, и терминатор ночи и дня шел за ними, смертоносный, как нацеленный на убийство робот. Коснись их солнце — и полетят они на землю с аэродинамическим изяществом булыжников.
Они рвались на север, не щадя дыхания, колотя небо лапами и копытами. Пузырьки шампанского от «рождественской радости», бурлящие в теле, начали выдыхаться, цвета становились тусклее, необычное обоняние покидало Мэтта, и жуткий холод вечной зимы пробивался даже через волчью шкуру. Он тянул, налегал, бежал, бежал, уже опускаясь к земле, как тонущая лодка…