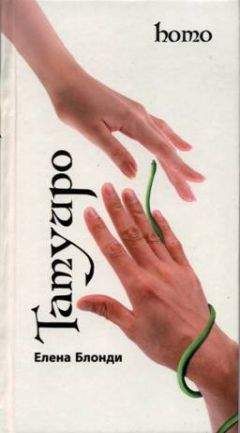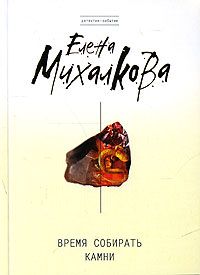Елена Блонди - Татуиро (Daemones)
На свет вышел, а все село гудит. Пропала Даша. Ушла из дома и никто ее не видел больше. Второй день уж пошел. Я к скотине этому. Знал, к нему ведь пошла. А нет его. В сельсовете сказали, мол, Яков с командой на катере — ищут, побережье осматривают. Шторм, народу много болталось тогда в море, ждали погоды, чтоб на берег вернуться, так что и отправлять на поиски не было кого. Этот сам вызвался. В команде еще трое его выродков, такие же, разницы только, что не за себя, а за него любому глотку вырвут.
— Тогда я пешком пошел. Как тот сенбернар. Взял с собой спирта фляжку, одежи в рюкзак и пошел побережье прочесывать. Сперва вдоль моря полкилометра, после степом обратно и снова вперед, уже дальше и — обратно. Кто же ее знает, вдруг убежала в степ. Домой не успел вернуться к ночи. Остался на берегу, костерок сделал в пещерке. Как мозги потерял, ей-ей. С моря они меня и приметили. Я, парень, до сих пор не знаю, зачем подошли, зачем подобрали? Могли бы и дальше в море-то болтаться, а утром уж… Ну, подошли. Яшина команда. Взяли на катер, я уж замерзал совсем, говорить не мог. А там тепло у них. Водка, рыба, музыка. И — Даша моя. В салоне, раздетая вовсе. Я как увидел… Понимаешь… Пьяная совсем, в глазах уже — одна водка. И кажется, еще поили чем. Ей уже все одно, сколько народу, что делают. Только глазами следит за Яшей, и как он к ней — смеяться начинает. Мелко смеется, по-заячьи, и кивает, и все делает, что он скажет. Меня не узнала. Когда Яша на диван сел, да показал на меня, она, все со смехом этим, ко мне, коленями по полу…
Голос его замялся, ушел в войлочный шепот. Повисла в желтеньком свете лампы вязкая тишина. И вдруг вырвался из нее, как из болота, грузный удар часов, стряхивая тяжелые капли молчания, взлетел вверх, звеня басом. И стих, успокоенный мерным тиканьем.
— Да… Так вот… Было оно… Отпихнул я ее, упала. И смеется, смеется, рукой меня за ногу хватает. А я к выродку этому, скотине. Ну, один раз только и успел. И то, вскользь, коло уха, стерегся он, следил.
Очнулся уже на берегу. Костерок догорает. Дашу приволокли, рядом бросили. А этот нагнулся, за волосы ее взял, потянул голову вверх, а сам на меня пялится. Дернул и сказал, мол, узнает кто, не то что без волос оставим кралю твою, — без ушей и…
Я кивнул, голоса не было. Боялся за нее сильно, а даже и встать не мог. Так он еще, уходить, примерился и еще сапогом ей по почкам, аккуратно так. Часа три лежали, она без сознания, а я все полз к ней. Очнусь, вроде ползу, а сам все на одном месте. Уже развиднелось, когда смог из рюкзака куртку там на нее, штаны кое-как. И на берег из пещеры, чтоб видно нас. Ну и набежали скоро мужики, подобрали.
Месяц она лежала в больничке. Молчала. Следователь приходил, но она ни побои снимать, ни заявление. Я дома, мать за мной ходила. А как поднялся, написал заявление в пароходство, послал, уволили меня.
Даша потом жила молча, сама. Вообще не говорила, ну, редко. Первое время ее все пацаны доставали, бегали следом, кричали, и что мне-то страшно было, кривлялись, по лицам чиркали ладонью, по груди. Я помнил, что он мне сказал тогда. И знал, никуда я теперь от нее, потому что кто обережет? Через год поженились. И как-то все пошло и пошло, потихоньку. Вот только приступы у ней. Как начались тогда еще, после свадьбы, так и живем от одного к другому. И, знаешь, ни разу не спросила, что и как было там, на катере да на берегу. Думаю, мало помнит, но — не спросила.
Тикали часы. Ветер налегал холодной грудью на стекло и, найдя щелку в заклеенной раме, трогал край занавески, дотягивался до Витькиного уха и водил по краешку, как лезвийком, будто подшучивая опасно. Нестерпимо захотелось удара часов из защищенной крепостцы коридора, по натертым полам и ступеням которого — только в тапочках, и чтоб уличной грязи ни-ни. Но часы молчали, страшный год жизни вместился в промежуток меж двух ударов, оставив огромный запас, щелью для ледяного сквозняка.
— Теперь ты про Якова знаешь. Со стороны тебе, оно может и кажется, бараны мы тут все, но вот, бывает. Бригадир он сейчас, самый крепкий, свояки его — по всей местной власти рассажены, рыбнадзор на Яшины подачки живет.
Николай Григорьич полез в нагрудный карман, достал сложенный листок бумаги.
— А это Васька принес тебе сегодня, от сестры. Просит она, чтоб ты завтра в поселок пришел. В Нижнее, то что вы с моря видели. Адрес тут. Насчет паспорта. И камеры твоей. И еще. На словах парнишка передал, чтоб ты мне змею показал. Что за такое? Какая у тебя змея, где?
Витька вздохнул. Полез руками к краю свитера:
— Что, так и просила, чтоб показал?
— Ну, да.
Он стащил свитер вместе с рубашкой, цепляясь небритым подбородком. И остался сидеть, с комком одежды на коленях.
— Ну, вот…
Привычно прищуренные глаза хозяина раскрылись. Он присвистнул.
— Ого! И сзади так?
— И ниже. Только можно я не буду штаны снимать?
— Не снимай. Вижу и так. Больно было поди? Такую громадину делать?
— Нну…
— Да и ладно. Мне показать просили, а не спрашивать. Одевайся уж.
Он покачал головой и достал еще сигарету. Кажется, и не удивился, чиркая зажигалкой, думал что-то напряженно.
Разве ему удивляться, решил Витька. Вон, у него — маяк. Мастеру Света какие удивления?
— Яков-то видел?
— Нет. И Наташа про то спросила.
— Ну, Наташа. Глупа она еще. Хотя спросила верно.
Витька, одевшись, поднялся из кресла.
— Дядя Коля, я звонить не буду, номера не помню. Я письмо напишу, хорошо?
— Пиши, конечно. А в Прибрежное хочешь, так я тебя подброшу, мне за Дашенькой ехать.
— Не надо, я сам. Пешком.
Хозяин покивал. Сидел и дымил, ожидая, пока Витька дощелкает Степану коротенькое письмецо с просьбой о деньгах. Дым плыл кольцами, туманными змейками вился вокруг люстры, пластался по потолку.
Витька закончил письмо. Перечитал. Перед глазами стояла маленькая пещерка с углями цвета вишенного варенья, грязная кожа обнаженной девушки с неловко подломленной под себя рукой. Кровь с пеплом и песком на лице в смерть избитого мужчины, что полз и полз, оставаясь на месте.
…Плавно нажал на мышку и подтвердил беспокойной программе, что да, не будет отправлять. Встал, держа в руке бумажку с адресом.
— Ну, я пойду. Выспаться надо бы.
— Ага, иди. Прости уж, за рассказы.
— Нормально, дядь Коля, все хорошо.
И у самых дверей остановился, слушая сказанное в спину:
— Я ведь, парень, после того молиться начал. Но молюсь неправильно, только о смерти его молюсь. Видно, потому и молчит бог.
И добавил:
— Иди уж. Поспите.
13. С НЕНАВИСТЬЮ И БЕЗ
Степь лежала просторно, как воздух, хотелось идти и дышать ею, просто так, не глядя. Идти долго, не приходя никуда, и к людям не надо, одному, — оторвать все, что уже наросло позади горбом и не приклеивать то, к чему шел, не макать лицо в людей, среди которых — злой ангел Яша с темными кудрями. Бесконечности хотелось. Она ведь разная бывает. Эта, рыжая, с резким ветерком и далеким шумом моря, с размытым дождиками небом, устраивала его вполне. В ней были круглые кусты полыни, полегшая влажная трава и сиреневые пятна бессмертного кермека, дрожащего усохшими цветочками. В ней — натоптанная обочина грунтовки, с красненькой травкой спорыш, которую шелушили клювами воробьи, перелетая от Витьки вперед и вперед, не понимая, что можно его пропустить и щелкать себе дальше свои воробьиные семечки. А может, им так интереснее. Слишком много еды вдоль дороги и просто есть ее скучно, а выпархивая из-под ног мерно идущего, чавкающего иногда грязными сапогами, — интереснее. Может, даже им не хочется превращать жизнь в жратву.