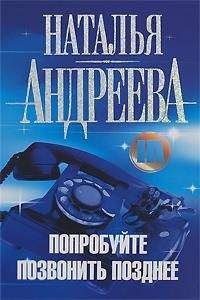Дэвид Уильямс - Звездолёт, открытый всем ветрам (сборник)
Вдруг руки поймали меня.
— Сюда!
Чудотворец Чхетри взволок меня на ноги.
И вот мы тащим друг друга вверх по склону — сквозь сажу, и слякоть, и масляное месиво — и уже не понять, где земля, а где воздух — везде грязь и гнусь, наверху и внизу, и по обе стороны… Но нога его была тверда, и фантастические уши его, совершенство эволюции, были настороже, и мы на карачках ползли по оберткам от гамбургеров, подбираясь все ближе и ближе к источнику громыхания и содрогания.
Когда я его заметил, мы были уже меньше чем в метре от него.
Гигантский провал, и мусор осыпался по его стенкам. На краю его царило относительное затишье. Оползень безобидно стекал по его склону.
Обалдев от радости, я совсем забыл про огненный фронт. Но вот он про нас не забыл.
Пламя, яркое и хитроумное, подобралось и набросилось снизу, одним прыжком покрыв немыслимый провал.
И окружило нас.
Помню, что я бежал. Рубашка загорелась и вздулась пламенем.
Последующие события настолько ужасны, что из милости к читателю я наброшу на них завесу приличия, чтобы охранить…
Но нет! Смотрите все, как возгорается эта завеса! Ей не противостоять пламени! Не выстоять перед стеной огня!
Смотрите! Вот взвывает жадно пламя, и завеса рассыпается в пепел, и снова и снова встает перед глазами, бесстыдно и бесстрашно, все, что случилось со мной в тот день…
— мы бежим, рубаха на мне полыхает, я пытаюсь ее сорвать и не могу, потому что руки мои уже сплавились в кулаки…
— дикая боль крутит меня на месте, когда вспыхивает под ногами груда то ли телевизоров, то ли компьютерных мониторов, искры разлетаются, как вырвавшиеся на свободу пиксели, и меня окатывают брызги расплавленного алюминия…
— и вот я потерял Чхетри из виду, и вот нашел его снова, почти сразу.
На краю ямы горит куча промасленных тряпок.
Я услышал, как кровь закипела у него в горле. Затем он упал за край пропасти. Я смотрел, как он полыхает вниз, освещая себе дорогу.
Я упал. Я не мог двинуть правой рукой. Ее пригвоздило обломком железной арматурины, и железо входило в меня так быстро, что я чувствовал его вкус изнанкой горла. Орудуя левой рукой как рычагом, я высвободил правую. Крови не было — рану прижгло раскаленным железом.
Я закатился в глубокую колею, полную жидкой грязи. В ней я схоронился, пока огонь не пошел дальше. Тогда я встал и направился к той части горы, которая не так обгорела.
Нашел пустую лачугу. Вкатился внутрь, потерял сознание, очнулся, чего-то выпил, потом выблевал.
Очнулся снова. Меня трясла лихорадка. Я звал дедушку. Все тело покрыто ожогами. Они истекали кровью, как и душа моя.
Ночь. Холодно. Укрыться нечем — кожи почти не осталось. Навестил Чхетри в его пропасти. В свете пожара он показал мне внутреннее устройство горы. Светлые, мягкие, простые покрытия. Слегка изгибистые. Пласт чудес: время, жар и давление сотворили из мусора сокровища, подобные самоцветам… Драгоценные занавеси дряннейшей дряни, обивочный плюш из оберточной пленки, пурпурный, как мокрота туберкулезника…
И в третий раз я очнулся от стука в расшатанную стену лачуги.
— Господин Навин Джа?
Стояла ночь — та же самая или уже нет, я не могу вам сказать. В дверях стояла женщина. Средних лет, худощавая, с тяжелой черной косой. И коса эта, если можно так выразиться, стояла дыбом.
Коса стояла в воздухе у нее над головой — мне было видно сквозь дыры в крыше, как она возвышается над дымом пожарища, над облаками, над самим небом.
От этого все ее тело почти висело в воздухе и ноги еле касались земли.
— Мистер Джа, — сказала она. — Я доктор миссис Сарью В. Тамхан.
В моей мастерской на Луне темное вещество начинает на меня действовать.
Я «вижу» лишенные света формы — феномены энтоптики, нейростатики, фосфены, скотомы… Не зрительные иллюзии — нет, зрение, но посредством иных органов.
Я продвигаюсь сквозь рои muscae volitans, которые еще называют мушками в глазах. Когда-то ученые считали их мельчайшими частицами, оказавшимися в стекловидном теле глаза, но теперь-то мы знаем, что это живые создания. Привлеченный светом, — возможно, потому, что и мы устремляем наше внимание к свету, — этот планктон темной материи проплывает в поле зрения подобно тому, как медузы парят в глубинах морских, и собирается вокруг светочувствительных колбочек в темной, как бункер, внутренности глаза.
Я опускаюсь в ободранное кресло — такими когда-то в армии обставляли кабинеты начальства, — и вдруг понимаю, что у меня уже не дойдут руки его заменить. Я принимаюсь пристегиваться ремнями, присобачивать к груди и животу капнометр, плетисмограф, пневматический тензодатчик, сфигмоманометр с обратной связью…
Когда-то в этой мастерской обретался некий производитель парастатического оружия из Чхатрапура. Исследования и разработка стелт-технологий на основе темной материи; наблюдения за поведением частиц-призраков; энергетические установки забвения; попытка создать боеголовку из темной материи — безатомную бомбу…
Все попытки свелись к нулю. Энергетическая защита лаборатории не могла сдержать утечки потревоженных энергий; они обрушились на окружающий город и привели к хаосу; социальные и механические факторы стресса сдавливали город, пока наконец его население не изверглось из него, как косточки граната, и спешно устремилось домой, к Земле…
Консоль издает резкий звук, и я вздрагиваю от неожиданности. Заработали биосенсоры обратной связи. Фельд-губернаторы загудели.
Я вздыхаю с облегчением и принимаюсь за работу.
И… ах.
Без костюма так хорошо. Чувствую себя как плотник, которому позволили наконец снять рукавицы и ощутить шероховатое дерево под руками.
Губернаторы гудят, как фейерверки антиматерии; стружка, снятая с ничего, бесшумно стукается об пол…
Я работаю. Скульптура обретает форму, ее глубинный взор видит меня насквозь, а я ее (как плывущая рыбка вызывает движение воды и в то же время сама повторяет его)… и эта работа растет не в физическом, но в эмоциональном пространстве, как и следует произведению искусства…
Полость, заключенная в другой полости, обнажает мою суть, драгоценный мусор моей души, который время, жар и давление превратили в самоцветы…
Скульптура проста: ритмы стены и окна, задумчивости и гулкой пустоты.
Она — архитектурный обломок, зал ожидания космопорта с огромной дверью выхода на космодром.
Создавая ее, я леплю мои чувства, вспоминаю тот день, когда я стоял там — портрет художника в молодости, через пять лет после пожара, весь еще в свежих розовых заплатах наращенной кожи.