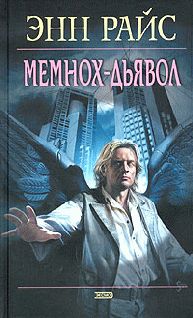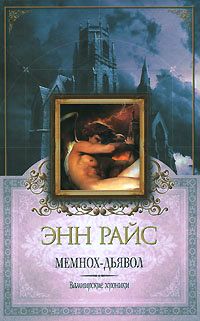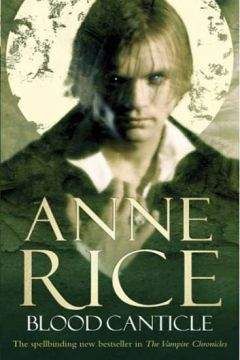Энн Райс - Вампир Лестат
Публика аплодировала нам стоя. И это не были провинциалы, стоявшие вокруг подмостков под открытым небом. Это были парижане, криками своими требующие возвращения на сцену Лелио и Фламинии!
Когда я оказался за кулисами, меня буквально шатало, и я едва не потерял сознание. Я ничего не видел вокруг себя, перед глазами стояла публика, глядящая на меня из-за огней рампы. Я жаждал вновь вернуться на сцену. Схватив в объятия Фламинию, я поцеловал ее и вдруг почувствовал, что в ответ она страстно целует меня.
Потом старый управляющий театра Рено оттолкнул ее.
– Ну что ж, Лестат, – сказал он задумчиво, – ты справился вполне прилично. Отныне я позволю тебе регулярно выходить на сцену.
Прежде чем я успел подпрыгнуть от счастья, нас окружила почти половина актеров труппы, и одна из актрис – Лючина – тут же воскликнула:
– Ну уж нет! Речь не о том, что ты позволишь ему регулярно выходить на сцену. Да он самый красивый актер на бульваре Тамплиеров, и ты наймешь его в труппу как положено и будешь платить ему как положено, и он никогда больше не возьмет в руки ни метлу, ни помойное ведро.
Я пришел в ужас. Моя карьера только началась и грозила тут же закончиться. Но, к моему неописуемому удивлению, Рено не раздумывая согласился на все ее условия.
Конечно, я был очень польщен тем, что меня назвали красивым, и понял, что Лелио может играть лишь актер, обладающий определенным стилем. И аристократ с моим воспитанием как нельзя лучше подходил для этой роли.
Но если я хотел, чтобы меня действительно заметила парижская публика, если я хотел, чтобы на меня обратили внимание в «Комеди Франсез», мне предстояло стать чем-то большим, чем златокудрый ангелочек, свалившийся на сцену прямо из дома благородного маркиза. Я должен был стать поистине великим актером. Именно этого я и намеревался в скором времени добиться.
В тот вечер мы с Никола отпраздновали мой успех грандиозной пьянкой, пригласив к себе в мансарду всю труппу. Потом я вылез на покатую скользкую крышу и раскрыл объятия всему Парижу, а Никола, стоя у окна, играл на скрипке, пока в конце концов мы не перебудили всех соседей.
Музыка была поистине восхитительной, но люди недовольно ворчали, ругались и орали, даже стучали кастрюлями и сковородами. Мы просто не обращали на них внимания. Мы пели и плясали почти так же, как не так давно делали это на поляне ведьм. Я даже едва не вывалился в окно.
На следующий день я стоял с бутылкой в руках под палящими лучами солнца на кладбище Невинных мучеников и диктовал писателю-итальянцу послание к своей матушке, в котором подробно описывал события прошедшего вечера. Я проследил, чтобы письмо было отправлено немедленно. Мне хотелось обнимать и целовать каждого встречного. Я стал Лелио! Я стал актером!
К сентябрю мое имя появилось в программке. Ее я тоже послал матери.
Теперь мы играли уже не старинные итальянские комедии, а фарс, написанный одним знаменитым сочинителем пьес, который из-за всеобщей забастовки драматургов не имел возможности поставить свое творение на сцене «Комеди Франсез».
Мы, конечно же, не могли указать его имя, но всем было известно, что это его пьеса, и каждый вечер зал театра Рено заполняли толпы придворных.
Моя роль в спектакле не была главной. Я вновь играл юного влюбленного, в чем-то похожего на Лелио, и это было еще лучше, чем исполнять ведущую роль. Как только я появлялся на сцене, все внимание зрителей обращалось на меня. Никола разучил со мной роль, постоянно ругая меня за то, что я так и не научился читать. К четвертому представлению пьесы драматург написал для меня еще несколько реплик.
В антракте Никола играл прекрасную сонату Моцарта, и его интерпретация чудесной музыки композитора удерживала зрителей на местах, не позволяя им покинуть зал. Даже его прежние приятели-студенты стали снова приходить к нам. Мы получали приглашения на частные балы. Раз в несколько дней я выкраивал время, чтобы отправиться на кладбище Невинных мучеников и продиктовать очередное письмо к матушке. И наконец в руках у меня оказалась вырезка из английской газеты «The Spectator» с восторженной рецензией на наш спектакль, в которой особенно была отмечена игра светловолосого проказника, крадущего в третьем и четвертом актах сердца абсолютно всех присутствующих в зрительном зале дам. Эту вырезку я тоже послал матери. Сам я, конечно, не мог прочитать рецензию, но тот человек, который принес ее мне, сказал, что она хвалебная, а Никола поклялся в том, что это именно так.
Холодными осенними вечерами я играл на сцене в своем красном бархатном плаще на меху. Даже полуслепой мог хорошо видеть его с самого последнего ряда галерки. Теперь я освоил и искусство накладывания грима, умело чередовал белый цвет с более темным, тем самым подчеркивая черты лица. Несмотря на черные тени вокруг глаз и ярко-красные губы, я выглядел очень естественно и одновременно эффектно. Я постоянно получал любовные записки от женщин.
По утрам Никола брал уроки игры на скрипке у итальянского маэстро. У нас теперь были деньги и на хорошую еду, и на дрова, и на уголь. Два раза в неделю приходили письма от матери. Она писала, что здоровье ее улучшается, что она уже не кашляет так страшно, как зимой, и почти не чувствует боли. Однако отцы лишили нас наследства и не желали слышать наших имен.
Мы были слишком счастливы, чтобы огорчаться из-за подобных пустяков. Но с наступлением холодов во мне еще более усилилось ощущение страшной опасности, «болезнь смертности».
В Париже холода причиняли особенно много неприятностей. Здесь не было такого чистого воздуха, как в горах.
Голодные, дрожащие от холода бедняки стучались в двери домов. Ухабистые, немощеные дороги были покрыты слоем липкой грязи. Босоногие ребятишки не знали, как спастись от пронизывающей стужи. Такого количества неубранных трупов на парижских улицах мне еще не приходилось видеть. Мой подбитый мехом плащ радовал меня больше, чем когда бы то ни было. Мы заворачивались в него вместе с Никола и, тесно прижавшись друг к другу, шли под дождем и снегом.
Однако холод не мешал мне в те дни чувствовать себя бесконечно счастливым. Именно о такой жизни я всегда мечтал. Я знал, что не задержусь надолго в театре Рено. Об этом твердили все окружающие. Я уже представлял себя на огромной сцене и в своем воображении рисовал картины успешных выступлений в составе настоящей театральной труппы в Лондоне, в Италии и даже в Америке. Однако пока у меня имелось все необходимое, а потому не было никаких оснований для спешки.
8
В октябре, когда Париж буквально застывал от холода, я вдруг стал регулярно замечать среди собиравшейся в зале публики одно и то же странное лицо, которое неизменно приводило меня в смущение. Иногда, увидев его, я даже забывал о том, что должен делать. И каждый раз лицо исчезало так же неожиданно, как и появлялось. Можно было подумать, что оно было не более чем плодом моего воображения. Так продолжалось в течение примерно двух недель, и в конце концов я не выдержал и рассказал обо всем Ники.