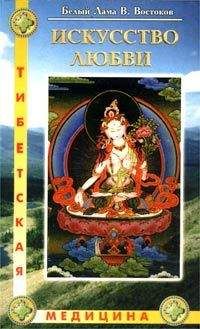Виктор Точинов - Царь Живых
Адель опустила лук и отошла с позиции для стрельбы… Она шла не к толпившимся эльфам. Она была чужая среди них. Эльфы знали ее – но Адель была им чужая…
Она шла к Ване.
И он понял – все. Все кончилось. Потому что сердце его остановилось. Это не метафора – совершенно конкретно перестало сокращаться. Кровь замедлила свой бег – и тоже остановилась. И наползала тьма – из углов, с краев того, что он видел, и оставалось лишь светлое пятно в центре… Там была Адель.
Конец, подумал Ваня и обрадовался: лучше умирать, видя Ее (он не знал имени, просто Она), чем оскаленную морду человекокрысы с занесенным куском арматуры – было, было, с ним однажды такое! – и тут же мимолетный оскал крысы исчез, он вышвырнул его из умирающего мозга – была только Адель. Конец, подумал Ваня – и был счастлив.
Потом все кончилось и началось снова – потому что Адель улыбнулась ему…
И он стал жить.
А может, все было не так. В смысле, не так романтично. Но пару ударов сердце Вани Сорина точно пропустило…
Вопрос о победителе был снят.
Королева эльфов поняла это сразу – и, колыхаясь величественным королевским телом, подбежала к Адель – поздравлять.
– Ах, Аделиночка, это бесподобно. – Ее щебечущий голос был совсем не королевский. Имя Аделиночка сначала резануло по слуху – ну не могло, не могло быть у Нее такое дурацкое имя! – и тут же отозвался дар: ложь! Отозвался болью.
Королева щебетала еще и еще, и это было больно – она слишком много лгала. Ване ложь вообще была неприятна чисто физически: но на вранье повелительницы эльфов он реагировал почему-то особенно остро…
А та говорила, как они все любят Адель, и как всегда рады ее видеть, и как она, королева, с огромной радостью возложит сейчас венец на эту прекрасную голову, и… – а в голове Вани билось болезненно-гулким молотком: ложь, ложь, ложь… Хотя – на словах о прекрасной голове молоток сделал паузу.
Ваня стоял неподалеку, и слышал их разговор, вернее, монолог королевы, и хотел отойти, спастись от долбящегося наружу молотка, и не мог, и… Но тут произошло чудо.
И тут с Ваней произошло чудо. Обыкновенное маленькое чудо…
Тьфу, господин кадет, как не стыдно… Ну при чем тут Адель?
И при чем тут Любовь?
Разве Любовь происходит? Разве она обыкновенная? Или маленькая?
Маленькое и обыкновенное, господин кадет, – это у вас. Чуть ниже пряжки ремня…
Я не про Любовь, я про чудо. Суть чуда была проста: Ваня научился управлять своим даром. А именно – отключать. Только не спрашивайте, как он это делал…
Кто спросил: как?
Так, опять вы, кадет… Экий вы, право, любознательный… Придется работать с вами индивидуально.
Вопрос: вы можете объяснить, господин кадет, как вы закрываете глаза?
Да я не про это, я сам знаю, что по команде “отбой”, меня интересует механика процесса.
Что? Веки опускаются? Верно, но не исчерпывающе. Вы можете рассказать в деталях и подробностях, как работают мышцы, опускающие ваши веки, как сокращаются их мио-фибриллы и как расщепляется при этом АДФ? Вы вообще знаете, что такое АДФ? И я не знаю, не суть важно, главное – расщепляется. А может, вам знакомы процессы, происходящие в вашей оптической системе “роговица-хрусталик”, когда работают ваши мышцы, опускающие ваши веки, закрывающие ваши глаза по команде “отбой”? Не знакомы…
Вот так и Ваня Сорин не знал, как он делает это – отключает свой дар.
Как все-таки отключал? Запущенный у вас, кадет, случай. Этиология в тумане, прогноз неутешительный.
Встать! На кухню шаго-о-ом… арш! Доложитесь дежурному.
Гностик выискался…
Остальным довожу: чистым разумом мир не познаешь. Инструмент нужен. Орудие. Желательно – острое. Нож для чистки картофеля вполне подойдет.
Увидите – вернется другим человеком.
Еще вопросы?
Тогда продолжим.
Труба зовет.
Глава 17
Немая сцена.
Звуков нет. Это не сон – но все звуки куда-то делись. Бывает.
Они едут. Колеса беззвучно крутятся. Это не электричка – здесь нет электричек. Это не скорый поезд – у них нет денег на скорый поезд.
Это – называется “подкидыш”.
Вагоны похожи, очень похожи на электричку – но слишком грязны, скамейки изломаны и похабно исписаны. Мир сквозь мутные стекла кажется мертвым. Дым – в вагонах здесь курят. И пьют. И едят. И просто живут. И все это едет. Вокруг много мертвых, но оставшиеся в живых не пугаются – привыкли. Какая разница – мертвецы довольно бодро ходят, что-то вкладывают в мертвые рты и мерно двигают челюстями. И курят. И пьют. Только не живут – но внешне это мало заметно.
Мальчик не спит – сжался на скамейке, возле окна в мертвый мир. В окно он не глядит. Он смотрит на игрушку – джип американской полиции. Марья вообще никуда не смотрит.
“Подкидыш” ползет вечность. Останавливается у каждого семафора. В каждой деревушке. Деревушки разные – в одних теплится жизнь. Другие – кладбища. Погосты. Но притворяются живыми – как и их обитатели.
Билетных касс нет ни в тех, ни в других. Билеты продает человек с толстой сумкой – он тоже толст. Он подходит к ним. Многие не замечают, но он мертв. Он что-то говорит Марье, мертвые губы шевелятся.
Билета у нее нет, денег тоже. Мертвые губы раскрываются шире и чаще – кажется, что сейчас полезут черви. Она уходит с мертвым человеком.
Мальчик остается один.
Она возвращается через двадцать минут или двадцать веков – все часы здесь стоят. Проезд оплачен.
Ей все равно. Все не важно.
Важно – чтобы жил ее сын. Андрюшка. Нареченный .
Звуки так и не появляются. “Подкидыш” ползет вечность.
Ползет на север.
У каждого, если вглядеться внимательно, можно обнаружить некую внешнюю черту, не просто отличающую его от других – замечательную.
Вглядитесь. У кого-то это волосы, у кого-то глаза. У кого-то очки в небывало красивой, привезенной из Парижа оправе…
У Коряги, верного ассистента и бессменного исполнителя главных ролей в фильмах Тарантино, такой чертой были руки. Даже не целиком руки – кисти рук. Пальцы…
Они, и кисти, и пальцы, были сильны и довольно велики – но выверенная до долей миллиметра пропорциональность и соразмерность не давали этого заметить. Руки были изящны – и не портили их ни обломанные ногти, ни старые шрамы, ни полувыведенная татуировка с женским именем – просто не могли испортить.
Они были красивы – и отчасти искупали другие черты Коряги, не зря получившего свое прозвище.
Жаль, что в свое время на пути владельца этих рук попался Тарантино, а не какой-нибудь скульптор… Скульптор бы ваял, взяв их за образец, руки скрипача-виртуоза – водящего смычком по струнам, но играющего на человеческих душах, на самом светлом и чистом, что есть в них. Скульптор бы ваял руки нейрохирурга, спокойные и уверенные руки, ведущие скальпелем тончайший разрез, тончайшую нить между жизнью и смертью, не имеющие права дрогнуть и ошибиться руки – и не дрожащие и не ошибающиеся…