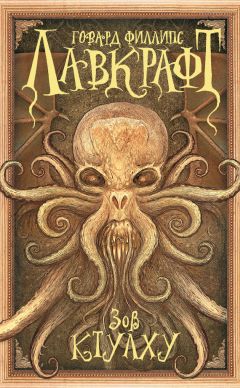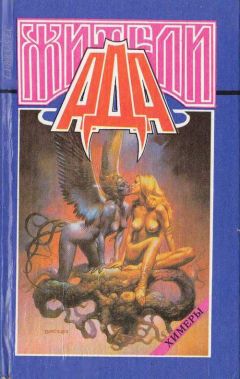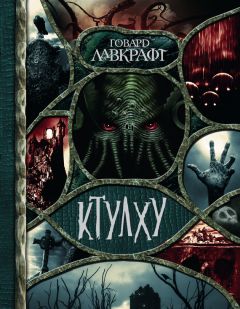Говард Лавкрафт - Зов Ктулху
До сих пор подробности этой истории являются загадкой не только для меня, но и для всех окружающих, поголовно ставших жертвами непонятной забывчивости, если только не группового помешательства. С какой-то стати они в один голос утверждают, что у меня никогда не было никакого друга и что вся моя злосчастная жизнь была без остатка заполнена искусством, философией и безумными фантазиями. В ту ночь соседи и полицейские попытались меня утихомирить, а затем вызвали врача, давшего мне успокоительное, но при этом все они дружно проигнорировали иные последствия разыгравшейся там трагедии. Их, в частности, нисколько не озаботила участь моего несчастного друга; совсем напротив — то, что они обнаружили на кушетке, вызвало с их стороны бурю восторгов и похвал в мой адрес, отчего меня едва не стошнило. За восторгами последовала и громкая слава, ныне с презрением отвергаемая мной: лысым седобородым стариком, жалким, разбитым, усохшим и вечно одурманенным наркотиками, — когда я часами сижу, любуясь и вознося молитвы предмету, найденному тогда в мастерской.
Ибо они утверждают, что я не продал самое последнее из своих творений, и без устали восторгаются им — холодным, окаменевшим и навсегда умолкшим после прикосновения запредельного света. Это все, что осталось от моего друга и наставника, приведшего меня к безумию и катастрофе, — божественный мраморный образ, достойный резца лучших мастеров древней Эллады; неподвластное времени прекраснейшее юное лицо в обрамлении бородки, с приоткрытыми в улыбке губами, высоким чистым лбом и густыми вьющимися кудрями, покрытыми венком из полевых маков. Говорят, это я изваял по памяти самого себя, каким я был в двадцать пять лет, однако на мраморном основании бюста начертано лишь одно имя — ГИПНОС.
Усыпальница[31]
(перевод В. Кулагиной-Ярцевой)
Чтобы мирный приют я обрел хотя бы по смерти.
Вергилий[32]Принимая во внимание обстоятельства, которые привели к моему заточению в этом приюте для умалишенных, и само мое пребывание здесь, я вполне сознаю, что достоверность моего рассказа может вызвать естественные сомнения. Как ни печально, большинство людей мыслят слишком ограниченно для того, чтобы разумно и терпеливо оценить некоторые явления, лежащие за пределами повседневного опыта и доступные восприятию лишь немногих. Людям широких взглядов известно, что не существует четкого различия между реальным и нереальным, а все сущее есть лишь наше представление о нем, меняющееся в зависимости от индивидуальных умственных и физических особенностей каждого человека; однако прозаическое большинство считает безумием те проблески озарения, что проникают сквозь грубую завесу банального эмпиризма.
Меня зовут Джервас Дадли. С самого детства я был мечтателем и фантазером. Достаток семьи позволял мне не заниматься трудовой деятельностью, а неуравновешенность характера не содействовала регулярным научным занятиям или развлечениям в кругу знакомых. Я пребывал в сферах, далеких от реального мира, юность и молодость мои прошли за чтением старинных и редких книг, в странствиях по полям и рощам близ нашей родовой усадьбы. Не думаю, что я находил в этих книгах или видел в полях и рощах совершенно то же, что видели или находили другие, но не стану распространяться об этом, поскольку подробный рассказ лишь послужит подтверждением грубой клеветы на мой рассудок — клеветы, которую мне не раз доводилось слышать в опасливом перешептывании здешних служителей. Мне достаточно излагать события, не анализируя их причины.
Как уже было сказано, я пребывал вдали от реального мира, но это не значит, что я существовал один. Так жить никому не под силу, и лишенный сообщества живых неизбежно находит себе компанию среди не живущих более или среди предметов неодушевленных.
Неподалеку от нашего дома находилась поросшая лесом лощина. Там, в тенистых зарослях, я проводил почти все время — то читая, то предаваясь размышлениям и мечтам. По ее мшистым склонам я делал первые детские шаги, вокруг ее покрытых причудливыми наростами дубов сплетались мои мальчишеские фантазии. Я знал живших в этих деревьях дриад и не раз наблюдал их исступленные пляски в пробивающихся лучах тусклой луны… но об этом я не стану сейчас говорить. Я расскажу лишь об одинокой гробнице в самых темных зарослях; о заброшенной гробнице старинного благородного семейства Хайд, последний прямой потомок которого упокоился в этом темном обиталище за много десятилетий до моего рождения.
Усыпальница, о которой я веду речь, была сооружена из гранита, выветрившегося и выцветшего под воздействием туманов и сырости. Она была вырублена в горе, так что на поверхности виднелся лишь портал. Тяжелая каменная плита, висевшая на ржавых железных петлях, преграждала вход. Дверь была затворена неплотно — в этом угадывалось нечто зловещее — и заперта на тяжелые железные цепи с отвратительного вида висячими замками, бывшими в ходу около полувека назад. Усадьба рода, отпрыски которого лежали здесь, некогда венчала тот самый склон, в глубину которого уходила гробница, но уже много лет назад она пала жертвой пламени, вспыхнувшего от удара молнии. О полуночной буре, разрушившей мрачный особняк, иногда, понизив голос, со страхом рассказывали старожилы здешних мест, глухо намекая на то, что они называли Божьим гневом. Но очарование скрытой под сенью леса усыпальницы, всегда пленявшее меня, от этого лишь усиливалось. Пожар унес жизнь только одного человека. Семейство Хайд перебралось в другую страну, и когда здесь, под сенью тишины и тени, должен был упокоиться последний из рода Хайдов, скорбную урну с его прахом доставили издалека. Здесь некому было положить цветы перед гранитным порталом, и редко кто отваживался пройти мимо гробницы в печальной тени, которая, казалось, странным образом задерживалась на отполированном водой камне.
Никогда не забуду вечера, когда я впервые набрел на почти скрытую зарослями обитель смерти. Стоял июль — время, когда алхимия лета преображает лес в сливающуюся воедино яркую массу зелени, когда кружится голова от запахов пульсирующего моря, влажной листвы и неопределимых ароматов земли и плодов, когда перестаешь видеть мир в истинном свете, время и пространство становятся пустыми словами, а эхо давно минувших времен настойчиво звучит в очарованном сознании.
Целый день я бродил по таинственным рощам лощины, обдумывая то, что нет нужды обсуждать, беседуя с теми, кого нет нужды называть. В свои десять лет я видел и слышал много чудесного, недоступного другим, и в некоторых отношениях был на удивление взрослым. Когда, пробираясь меж густых зарослей шиповника, я вдруг нашел вход в усыпальницу, то не имел ни малейшего представления о том, что обнаружил. Темные гранитные плиты, странно приоткрытая дверь, траурные барельефы над аркой не пробудили во мне ни печальных, ни пугающих ассоциаций. О могилах и гробницах я много знал и много фантазировал, но, принимая во внимание особенности моего характера, родители оберегали меня от прямого соприкосновения с кладбищами и погостами. Удивительное каменное сооружение на поросшем лесом склоне лишь возбудило мое любопытство, так как его холодное влажное нутро, куда я тщетно пытался заглянуть сквозь дразнящую щель, не связывалось у меня со смертью и разложением. Вдруг любопытство сменилось диким, безрассудным желанием, которое и привело меня в это заключение, в этот ад. Повинуясь голосу, который шел, должно быть, из самой жуткой глубины леса, я решил проникнуть в манящую тьму, несмотря на преграждавшие путь тяжелые цепи. В угасающем свете дня я гремел их ржавыми звеньями, пытаясь пошире открыть каменную дверь, потом пробовал протиснуться в щель; но ни то ни другое мне не удалось. И если поначалу меня снедало простое любопытство, тут я пришел в неистовство; в сумерках вернувшись домой, я поклялся сотне богов этой рощи, что любой ценой когда-нибудь окажусь в черных холодных глубинах, которые, казалось, призывали меня.