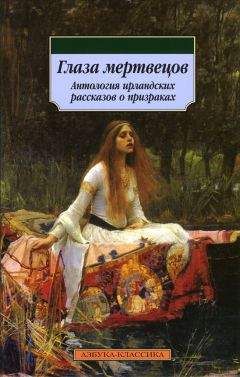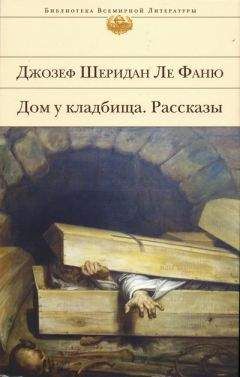Джозеф Ле Фаню - Любовник-Фантом (сборник)
— Занятная птица, — заметил я, указывая на герб с красным аистом. — Верно, господа твои принадлежат к очень знатному роду?
Слуга опустил ключик в карман и, несколько насмешливо мне улыбаясь, с поклоном отвечал:
— Может, и так, месье. Гадайте, сколь вам заблагорассудится.
Нимало не смутившись таким ответом, я тотчас прибег к верному средству, которое порой действует на язык как слабительное: я имею в виду «чаевые».
Увидев у себя на ладони наполеондор, слуга взглянул на меня с искренним изумлением.
— Вот так щедрость, месье!
— Пустяки! Скажи-ка лучше, что за дама и господин приехали в этой карете; если припомнишь, я и слуга мой хотели помочь вам сегодня, когда упали ваши лошади.
— Сами они граф, а госпожу мы зовем графинею, да только я не знаю, не дочка ли она ему — уж больно молода.
— Ну, а где они живут, можешь сказать?
— Ей-богу, месье, не могу: не знаю.
— Не знаешь, где живет твой хозяин? Что же ты тогда о нем знаешь, кроме титула?
— А ничего, месье; они ведь меня в Брюсселе наняли, как раз в день отъезда. Вот Пикар, другой слуга, тот при господине графе уже много лет и наверняка все знает: да только он со мной не разговаривает: приказ хозяйский передаст — и молчок. Я из него за все время так ничего и не вытянул. Ну, да ладно, скоро в Париж приедем, там я быстро все разнюхаю. А сейчас я вроде вашего, месье, ничегошеньки про них не ведаю.
— А где сейчас этот Пикар?
— Пошел к точильщику бритвы править; только думаю, месье, вам от него тоже ничего не добиться.
Да, для золотой наживочки улов мой оказался небогат. Парень, похоже, говорил правду; будь ему известны семейные тайны, он выложил бы их мне как на духу. Я вежливо распрощался и вернулся в свою комнату.
Здесь я сейчас же призвал к себе слугу. Слуга мой, хоть и нанятый в Англии, был француз и во всех отношениях полезный малый: шустер, пронырлив, а главное — прекрасно знаком с нравами своих соотечественников.
— Сен Клер, затвори дверь и поди сюда. Сен Клер, мне непременно надо выяснить, что за господа знатного рода поселились в номерах под нами. Вот тебе пятнадцать франков. Разыщи слуг, которым мы предлагали сегодня помощь, устрой для них petit souper[5], потом вернись ко мне и расскажи все до слова. Я сию минуту говорил с одним из них, да он, как выяснилось, мало что знает. Зато другой, не помню, как его зовут, служит при знатном господине лакеем, вот он-то и должен знать все; за него и возьмись. Да! Ты, конечно, понимаешь, что меня интересует почтенный старец, а отнюдь не его молодая спутница… Ну, ступай же, ступай! Возвращайся скорее с новостями и, смотри, ничего не упусти.
Сие поручение как нельзя лучше подходило к характеру моего славного Сен Клера; с ним, как вы уже поняли, сложились у меня отношения особой доверительности, какая положена между хозяином и слугою по канонам старой французской комедии.
Уверен, что втайне он надо мною потешался; внешне, однако, был сама почтительность.
Наконец с многозначительными взорами, кивками и ужимками Сен Клер удалился. Я тут же выглянул в окно и убедился, что он успел уже выбраться во двор и с необычайной быстротою углубляется в гущу карет и экипажей; вскоре я потерял его из виду.
Глава III
«Смерть с любовью собирались…»
Когда время тянется медленно, когда человек томится ожиданием, нетерпением и одиночеством; когда минутная стрелка тащится еле-еле, как пристало разве часовой, а часовая и вовсе застыла на месте; когда человек зевает, барабанит пальцами по столу и, портя свой благородный профиль, расплющивает нос об оконное стекло; когда насвистывает самому уже опротивевшие мотивчики и, коротко говоря, не знает, что с собою поделать, — остается лишь сожалеть, что организм наш приемлет достойный обед из трех блюд не более одного раза в день. Увы, законы природы, коим подвластны все, не позволяют нам чаще прибегать к подобному развлечению.
Впрочем, в дни, о которых я веду мой рассказ, ужин тоже представлял из себя вполне приличную трапезу, и я воспрянул духом, ибо ужин был не за горами. Однако я решительно не знал, как скоротать оставшиеся три четверти часа.
Конечно, я прихватил в дорогу пару книжек, но бывает, как известно, множество обстоятельств, не располагающих к чтению. Начатый роман благополучно покоился на кровати меж пледом и тростью, и пускай главный герой его вместе с героинею потонул бы в бочонке, что стоял, полный воды, во дворе под моим окном, их судьба не трогала моего сердца.
Я сделал еще круг-другой по комнате, вздохнул и поправил перед зеркалом роскошный белый бант, завязанный на шее по примеру бессмертного щеголя Бруммеля; затем я облачился в песочного цвета жилет, в синий фрак с золотыми пуговицами и обильно оросил носовой платок одеколоном (в те времена не было еще того разнообразия букетов, которым впоследствии осчастливила нас парфюмерия). Я поправил волосы — предмет моей особой гордости в те дни. Ныне от вьющейся темно-каштановой шевелюры, за которой я так любил ухаживать, остался лишь беленький пушок, да и то кое-где, а блестящая розовая лысина давно позабыла, что ее когда-то украшала растительность. Но оставим эти досадные подробности. Тогда я был обладателем роскошных густых темно-каштановых волос. И прихорашивался весьма тщательно. Достав из коробки безупречнейшую шляпу, я небрежно водрузил ее на голову — весьма, на мой взгляд, неглупую, — водрузил с тем едва заметным наклоном, который, как подсказывала мне память и некоторая практика, умел придать своему убору уже упомянутый мною бессмертный щеголь. Тонкие французские перчатки и довольно увесистая узловатая трость, какая снова ненадолго вошла тогда в моду в Англии, завершали, как сказал бы сэр Вальтер Скотт, «мое снаряжение».
Щеголять, однако, было негде: лишь на крыльце или во дворике захудалой придорожной гостиницы. Столь трогательным вниманием к собственной наружности я был обязан, как вы догадались, прекрасным глазам, которые увидел в тот вечер впервые и которые никогда, никогда не позабуду! Иными словами, это делалось в смутной надежде, что упомянутые глаза могут бросить случайный взгляд на своего обожателя и, не без тайной приязни, сохранить в памяти его безукоризненный и загадочный облик.
Пока я завершал мой тщательный туалет, угас последний солнечный луч; наступил час сумерек. В полном согласии с опечаленной природой я вздохнул и раскрыл окно, намереваясь глотнуть вечерней свежести, прежде чем идти вниз. В тот же миг я осознал, что в комнате подо мною тоже открыто окно: оттуда доносился разговор. Слов было не разобрать.
Мужской голос звучал весьма своеобразно: он, как я уже говорил, был пронзителен и одновременно гнусав; разумеется, я узнал его сразу. Отвечавший ему нежный голосок спутать с любым другим было бы просто невозможно.