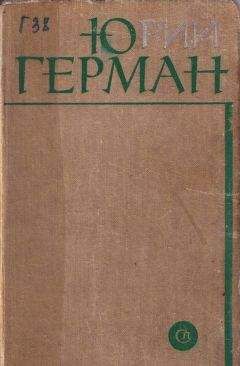Из бездны - Шендеров Герман
15 августа 1833 года
Произошел форменный обман! Увлекшись историей исхода израильтян из Египта, я просидел буквально до заката. Negroes уже расходились, остались только я и тот, огромный, татуированный. Я был уверен, что я – следующий в очереди, как вдруг дверь отворилась и навстречу мне вышла сама Мари Лаво. Ее нетрудно было узнать по нарочито богатому, совершенно безвкусному платью – казалось, она замоталась с головы до ног в разноцветные цыганские платки. Лицо Voodoo Queen выражало надменнейшую скуку, какова свойственна светским дамам. Я рванулся было ей наперерез, но был остановлен тяжелой рукой татуированного арапа – как будто налетел на толстую деревянную балку. Он угрожающе рыкнул, что «госпожа Лаво сегодня больше не принимает». Тут, конечно, я понял, что меня обманули и, похоже, договариваться об аудиенции придется самому; шанс не хотелось упускать – не ждать же мне неделю или целый месяц, пока луизианская шарлатанка вновь снизойдет до просителей. Высовываясь из-под стволоподобной руки телохранителя, я, дабы привлечь ее внимание, обратился к ней: «Мадам, со всем моим уважением, я целый день простоял здесь, под солнцем, ожидая аудиенции с вами. Я переплыл океан и проехал много миль, чтобы увидеть вас! Не сочтите за дерзость, но я бы хотел…»
Лаво действительно остановилась, пригляделась ко мне внимательно, втянула широкими ноздрями воздух и брезгливо выдохнула, будто учуяла запах нечистот. Она недобро расхохоталась и бросила что-то на непереводимой смеси креольского и французского, после чего вышла из проулка на дорогу, где ее уже ждала повозка. Арап оттеснил меня и двинулся за своей госпожой следом, а я так и остался один в заплеванном negroes переулке. Вдруг я заметил, что все же не одинок: за бочкой с дождевой водой сидела сухонькая старуха-негритянка, одетая в грязное тряпье. Из плеч торчали две гноящиеся культи. Я бы нипочем не заметил ее в тени переулка, если бы та вдруг не разразилась тоненьким, едва слышным смехом, будто сидела в бельэтаже варьете и смотрела какую-нибудь невероятно смешную постановку. Стоило мне обернуться к ней, как старуха тут же прервала смех и принялась, с удивительной ловкостью орудуя пальцами ног, запихивать в рот лежавшие перед ней куриные кости и яростно обсасывать – видимо, зубов у нее не осталось. Мне до глубины души совестно за этот поступок, но я был столь раздосадован потерянным днем, утомлен жарой, voyage и беспрестанной чесоткой, что не смог сдержать гнева. Со злобой я подскочил к калеке – та запихнула кости в рот, едва не подавившись, видимо, думала, что я их отберу, – и ткнул ее тростью. Спросил: «Что ты видишь смешного, убогая? А? Что смешного?» Старуха квохтала, давилась куриными костями и отмахивалась от меня ногами, а я тыкал ее тростью и спрашивал: «Чего тут смешного? Чего смешного?»
Уже задыхаясь, вымотанная борьбой, калека ответила:
«Она сказала, что не разговаривает с проклятыми… Не разговаривает с проклятыми, ха-ха! Ананси под твоей кожей переплетает твою судьбу, я вижу!»
Да простит меня Господь за то, что случилось дальше, за то, чему нет места на странице этого дневника. До конца жизни я буду молиться о прощении за содеянное и…
После небольшого променада я вернулся в гостиницу и сейчас, совершенно опустошенный, пишу эти строки. Непонятно, стоит ли мне оставаться еще на черт знает сколько времени, чтобы все-таки добиться встречи с овеянной славой Мари Лаво, или купить билет на ближайший пароход и покинуть эту негостеприимную страну, в которой грязные метисы даже не осознают своей удачи – в их дверь стучится народоволец, меценат и гуманист… Довольно славословий. И, проклятье, как же все зудит! Мне непременно нужно найти доктора.
Чешется. Как же все чешется, проклятье! Кажется, под кожей шевелятся чьи-то лапки. Все руки уже бурые от крови, но я не способен остановиться. Вся простыня и белье в кровавых разводах. Кожа сходит лоскутами. Адский, невыносимый зуд! На воздух, срочно на воздух – возможно, ночная прохлада облегчит эту муку. Я где-то оставил еще один ноготь. Что со мной?!
Я только что снял кожу с руки, как перчатку. А под кожей рука оказалась черной! Черной!
Едва не угодил в какое-то болото. Изорвал сорочку о мангровые корни. Вода немного успокоила чесотку. Кажется, будто меня скребут десятки, нет, сотни маленьких пальчиков – точь-в-точь как пальчики того арапчонка. Или я сам себя скребу? Нет, это изнутри!
Это кошмары, какие-то кошмары. Отражение в воде не похоже на меня. Я сам не похож на себя. Я пишу черными руками по белой бумаге! Что со мной? Кажется, я гнию заживо. О, за что мне такое проклятие! Проклят! Я проклят! Чертова старуха из чертова переулка ухмыляется мне из воды. Если эти записи кто-то увидит – Бог мне свидетель, я каюсь за сотворенное с ней…
Пауки под кожей, они скребутся! Скребутся!
Я держу в руках свое лицо. Как маску. Оно расползается на лоскуты, как разваренная курятина. Что у меня теперь вместо лица? Боюсь касаться. Что теперь вместо него? Что, черт возьми, у меня вместо лица?! Рассвет. Не хочу глядеть в отражение.
Август 1833 года, точная дата неизвестна
Это похоже на дурной сон. Мне еле удалось добраться до дневника – если кто-то увидит в моих руках записную книжку, подумают, что я ее украл у белого, и снова накажут. Я прячу ее за ведром с нечистотами – надсмотрщики к нему и близко не подходят, брезгуют, но оно к лучшему. Прочие negroes держатся от меня подальше, называют меня каким-то странным словом, вроде detwi net, трудно понять.
Дата неизвестна
Меня осмотрели. Тыкали под ребра, заглядывали в зубы, как животному. Измерили череп. Сказали: «Неудивительно, что они тупее белого человека, – посмотрите на объем. А вот стручок как у китаёзы». Я не знал, куда деться от стыда. Под конец мне на щеке выжгли английскую букву R, что означает Runaway – беглец. Я чуть было не потерял сознание от боли: как будто заживо сдирают плоть и набивают череп угольями. Не знаю, как это выдерживают их дети, женщины! После меня бросили обратно в яму к остальным.
Дата неизвестна
Пытаюсь восстановить события той злополучной ночи. Я до сих пор не могу постичь произошедшего. Кажется, я погрузился в какой-то психоз и изодрал себя до крови. Когда я вернулся в гостиницу, меня даже не пустили на порог, позвали полисмена. Я кричал: «Пустите, это моя гостиница! Проверьте мои документы – они в номере!», но вместо речи выходило странное бульканье, будто мои губы и гортань как-то изменились. Надо мной смеялись и били палками. Меня закинули как был, в драной окровавленной сорочке, в какую-то яму, это и подвалом назвать язык не повернется. Благо мне хватило сноровки незаметно спрятать эти записи под одеждой. Теперь у меня есть хотя бы шанс – если и не вырваться, то рассказать миру о своих злоключениях.
Дата неизвестна
Бог его знает, сколько дней я здесь пробыл. Чесотка почти прошла, но мне негде увидеть свое отражение. Чем я стал? Что со мной? Почему со мной обращаются как со скотиной? Неужели дело в старухе? Что я делаю здесь, среди этих грязных negroes? Солнце едва проникает сквозь решетку, но я уже приноровился обитать в полутьме и даже решил вернуться к записям. Если я когда-нибудь освобожусь, то этот дневник…
Дата неизвестна
Кто-то пришел! Ниггеры повскакивали с мест и подошли к решетке. Ужас, что меня могут купить, как самую обыкновенную скотину, затмевает надежда, что жизнь в рабстве навряд ли будет хуже, чем существование в этой яме. Покупателя сквозь решетки мне разглядеть не удалось, по голосу я понял, что это дама. Не расслышал, то ли Альсина, то ли Альбина… Неужели русская? Тогда у меня есть надежда, шанс выбраться из этого кошмара. Шаги! Прячу записи!