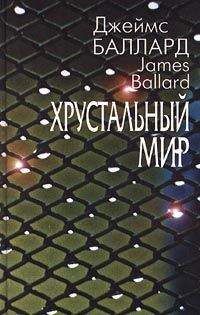Монтегю Джеймс - Случай в кафедральном соборе
Рассказ мистер Уорби был долгим, и я не возьму на себя смелость передать его целиком теми же словами или в той же последовательности. Выслушав эту историю, Лейк немедленно записал ее суть вместе с несколькими пассажами рассказчика, которые запомнились ему verbatium.[2] Вероятно, кое-какие места в записях Лейка будет целесообразно изложить подробнее.
Как выяснилось, мистер Уорби родился около 1828 года. И отец его, и дед так или иначе были связаны с собором. Сначала один, потом другой были хористами, а позже обслуживали здание, работая каменщиком и плотником соответственно. Сам Уорби, хотя и обладая весьма посредственным голосом, как он откровенно признался, был тем не менее в возрасте десяти лет привлечен в церковный хор.
В 1840 году собор Саутминстера поразила волна возрождения готики.
— Много тогда произошло любопытного, сэр, — сказал Уорби со вздохом. — Мой отец ушам своим не поверил, когда ему велели перестроить хоры. Как раз тогда пришел новый настоятель — это был декан[3] Берскаф и отцу пришлось поступить подмастерьем в одну солидную плотницкую фирму в городе и самому взглянуть на то, что такое настоящая работа. Здорово было, говаривал он: дубовая древесина высшего качества, такая же, как в день, когда ее привезли; плоды и листва, похожая на гирлянду; старинные позолоченные ручки и органные трубы… Всё это поступало прямо в мастерские за исключением разве что мелких деталей, которые обрабатывались в капелле девы Марии — и здесь же украшалось резьбой. Возможно, я ошибаюсь, но думаю, что хоры церкви никогда не выглядели лучше. Многое прояснилось в истории церкви и многое, несомненно, надо было восстанавливать. А ведь прошло всего несколько лет с тех пор, как мы утратили бельведер.
Мистер Лейк полностью разделял взгляды мистера Уорби на реставрацию, однако выразил опасение, что, увлекшись подобными рассуждениями, они никогда не доберутся до сути истории. В каком-то смысле его можно было понять.
Уорби поспешил его успокоить.
— Я вовсе не склонен говорить на эту тему часами и при первой же возможности. Но декан Берскаф был просто одержим этим готическим периодом и унять его можно было, лишь соглашаясь с ним. Однажды утром после службы он велел отцу ждать его на хорах, а сам, переодевшись в ризнице, присоединился к нему с целым рулоном документов (которые потом оказались в столе), и принялся расстилать их, придавливая молитвенниками, а отец стал ему помогать и увидел, что на листах изображены хоры собора.
— Ну, Уорби, — спросил декан (а он был джентльмен говорливый), — что вы об этом думаете?
— Ну, — ответил отец, не могу сказать, что я узнаю этот вид. Наверное, это собор в Херефорде?
— Нет, Уорби, произнес декан. — Это Саутминстерский собор, каким его видели много лет назад, и каким мы надеемся увидеть его теперь.
— Ну и ну, сэр, пробормотал мой отец и больше не проронил ни слова, чего нельзя сказать о дека-| не, однако потом как-то признался мне, что едва не потерял дар речи, когда осмотрел наши хоры, которые, как мне помнится, были очень удобны и прекрасно обставлены, а затем глянул на отвратительную мазню — как он ее назвал, — присланную лондонским архитектором. Впрочем, я опять отвлекаюсь. Но вы поймете, что я имею в виду, если посмотрите на этот старый рисунок.
И Уорби достал из стенного шкафа копию рисунка.
— В общем, через какое-то время декан передал отцу приказ полностью очистить хоры убрать всё подчистую — и приготовить для реконструкции, которую утвердили в городе. Более того, он собирался лично руководить работами, как только соберет специалистов. Поглядите сюда, сэр, вот тут раньше стояла кафедра; я бы хотел, чтобы вы обратили на это особое внимание.
Действительно, нетрудно было заметить, что необычайно крупное деревянное сооружение с покатой верхней доской должно было располагаться в восточном приделе северной части хоров — прямо напротив места епископа. Уорби продолжил рассказ и заметил, что изменения, которые коснулись также нефа и мест хористов, вместо ожидаемого одобрения, вызвали недовольство — в частности, органист выказывал опасение, что работы обязательно повредят механизму временно установленного органа, который за немалую плату выписали из Лондона.
Разрушение началось с ограждения хоров и органной галереи, после чего постепенно двинулось в восточном направлении. Попутно открывая, как заметил Уорби, множество интереснейших подробностей работы старых мастеров. Служители церкви, разумеется, живо интересовались работами на хорах, и вскоре старшему Уорби — который постоянно слышал их разговоры — стало ясно, что многие старые каноники отнюдь не в восторге от политики, проводимой новым руководством. Одни были убеждены, что им грозит смерть от холода в обновленном здании, где не было никакой защиты от сквозняков, гуляющих по нефу, другие возражали против того, что теперь ризница а, следовательно, и они сами — оказались на виду; это мешает сосредоточиться, полагали они, мешает слушать с должным вниманием и может привести к неверным толкованиям. Самое сильное сопротивление декан встретил, однако, у одного из старейших служителей собора, который до последнего момента противился перемещению кафедры. «Нельзя ее трогать, господин декан, с глубокой убежденностью заявил он однажды утром, когда они вдвоем остановились у кафедры. — Мы не знаем, какое зло можем разбудить». «Зло? Но эта работа не имеет конкретной направленности, каноник». «Не называйте меня каноником, — с необычной резкостью возразил старик, — ибо вот уже тридцать лет я широко известен как доктор Эйлоф и буду вам очень обязан, господин декан, если впредь вы будете именовать меня именно так. А что касается кафедры (с которой я эти тридцать лет проповедовал, хотя вовсе на этом не настаивал), то я просто знаю, что ее нельзя двигать с места, вот и всё». «Но какой смысл оставлять ее здесь, мой дорогой доктор, если все хоры будут оформлены в совершенно ином стиле? Назовите хоть одну причину, кроме вашего личного убеждения». «Причина, причина… — проворчал старый доктор Эйлоф. — При всем моем уважении к вам, господин декан, если бы молодые люди вроде вас больше слушали голос разума и меньше спрашивали о причинах, то было бы намного лучше. А я сказал лишь то, что сказал». После этого старик заковылял прочь и, как выяснилось впоследствии, больше никогда не входил в собор. Сезон — а было жаркое лето — выдался на удивление болезнетворным. Доктор Эйлоф заболел одним из первых; у него начались какие-то процессы в дыхательных путях, и по ночам он не мог спать от боли. Число хористов на многих службах далеко не всегда было полным.