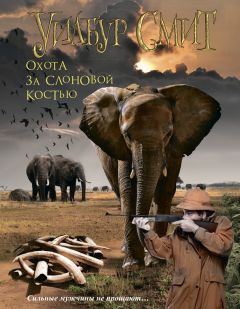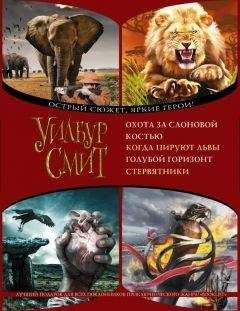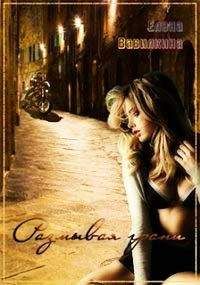Рэй Брэдбери - Земля на вывоз
Встаю — и сам ору благим матом! Добежал кое-как до сарая, весь в крови, вытащил инструмент, а много ли сделаешь ночью, в одиночку? Грунт мерзлый, твердый, как камень. Прислонился я к дереву. До той могилы три минуты ходу, а до гроба докопаться — восемь часов, никак не меньше. Земля звенит, что стекло. А гроб — он и есть гроб; воздуху в нем — кот наплакал. Генриетту Фремвелл схоронили за двое суток до заморозков. Она спала себе и спала, дышала этим воздухом, а перед тем как настоящие морозы грянули, у нас дожди прошли: земля сперва промокла, потом промерзла. Тут и за восемь часов не управиться. А уж как она кричала — ясно было, что и часу не протянет.
Трубка погасла. Старик умолк и начал раскачиваться в кресле.
— Как же вы поступили? — спросил посетитель.
— Да никак.
— Что значит «никак»?
— А что я мог поделать? Земля мерзлая. С такой работой и вшестером не совладать. Горячей воды нет. А бедняжка кричала, поди, не один час, покуда я не услыхал, вот и прикинь…
— И вы ничего не предприняли?
— Так уж и ничего! Лопату и ломик в сарай от нес, дверь запер, вернулся в дом, сварил себе шоколаду погорячее, но все равно дрожал как осиновый лист. А ты бы что сделал?
— Да я…
— Долбил бы землю восемь часов, удостоверился, что в гробу — покойница: надорвалась от крика, задохнулась, остыла уже, а тебе еще могилу закапывать и с родственниками объясняться. Так, что ли?
Заезжий паренек не сразу нашелся, что ответить. Вокруг голой лампочки, подвешенной на крыльце, пищал комариный рой.
— Теперь ясно, — только и сказал он. Старик пососал трубку.
— У меня всю ночь слезы текли — от бессилия. — Он открыл глаза и с удивленным видом поглядел перед собой, как будто все это время слушал чужой рассказ.
— Прямо легенда, — протянул парень.
— Богом клянусь, — сказал старик, — чистая правда. Хочешь еще послушать? Видишь большой памятник, с кривым ангелом? Под ним лежит Адам Криспин. Его наследники переругались, получили в суде разрешение да и раскопали могилу — думали, покойный был отравлен. Но ничего такого не определили. Положили его на старое место, да только к тому времени земля с его холмика уже смешалась с другой. Засыпали-то второпях, сгребали землю с близлежащих могил. Теперь на соседний участок взгляни. Видишь, ангел со сломанными крылами? Там лежала Мэри-Лу Фиппс. Выкопали ее — опять же по настоянию родственников — и перезахорони ли в Иллинойсе. Есть там городок Элгин. А могила так и стояла разверстой — чтоб не соврать — недели три. Никого в нее так и не положили. Земля тем временем смешалась с прочей. Теперь отсчитай от туда шесть памятников и один к северу: там был Генри-Дуглас Джонс. Шестьдесят лет никто о нем не вспоминал, а потом вдруг спохватились. Перенесли его останки к памятнику павшим в Гражданской войне. Могила пустовала аж два месяца — кому охота ложиться в землю после южанина? Наши-то все за северян были, за генерала Гранта. Так вот, его земля тоже кругом раскидана. Понимаешь теперь, откуда берется эта земля на вывоз?
Парень окинул взглядом кладбищенские пределы:
— Ну, ладно, а где все-таки у вас этот бесплатный грунт?
Старик ткнул куда-то черенком трубки; действительно, в той стороне была насыпана куча земли, метра три в поперечнике на метр в высоту: сплошной суглинок и куски дерна — где совсем светлые, где бурые, где охристые
— Сходи, глянь, — предложил старик. Приезжий медленно подошел к земляному холмику и остановился.
— Да ты ногой пни, — подсказал смотритель. — Проверь.
Парень ткнул землю носком сапога — и побледнел.
— Слышали? — спросил он.
— Чего? — Старик смотрел в другую сторону. Незнакомец прислушался и покачал головой:
— Нет, ничего.
— Ты не тяни, — поторопил сторож, вытряхивая пепел из трубки. — Сколько будешь брать?
— Еще не решил.
— Лукавишь. Все ты решил, — сказал старик. — Иначе зачем было грузовик подгонять? У меня слух — что у кошки. Ты только тормознул у ворот — я уж все понял. Говори, сколько берешь?
— Даже не знаю, — замялся парень. — У меня задний двор — восемьдесят на сорок футов. Мне бы насыпать пальца на два жирной мульчи. Это сколько?..
— Половина горки, что ли, — прикинул старик. — Да забирай всю, чего уж там. Охотников на нее немного.
— Хотите сказать…
— Куча то растет, то уменьшается, то растет, то уменьшается — с тех пор как Грант[1] взял Ричмонд,[2] а Шерман[3] дошел до моря. Здесь земля еще с Гражданской войны, щепки от гробов, обрывки шелка — еще с той поры, когда Лафайет[4] увидел Эдгара Аллана По[5] в почетном карауле. Здесь остались траурные венки, цветы от десятка тысяч погребений. Клочки писем с соболезнованиями на смерть немецких наемников и парижских канониров, которых никто не стал отправлять морем на родину. В этой земле столько костной муки и перегноя от похоронных причиндалов, что за нее и деньги не грех с тебя запросить. Бери лопату и забирай товар, покуда я тебя самого лопатой не отоварил.
— Не двигайтесь! — Парень предостерегающе поднял руку.
— Мне двигаться некуда, — ответил старик. — А больше тут никого не видать.
Маленький грузовичок подкатил прямо к земляной куче, и водитель уже потянулся в кузов за лопатой, но сторож его остановил:
— Нет, погоди.
И тут же пояснил:
— Кладбищенская лопата получше будет. Она к этой земле привычна. Можно сказать, сама копать будет. Возьми-ка вот там.
Морщинистая рука указала на лопату, вогнанную по середину лезвия в темный земляной холмик. Парень пожал плечами, но спорить не стал.
Кладбищенская лопата вынулась из земли с тихим шорохом. С такими же шепотками с нее осыпались комки старого грунта.
Приезжий взялся за дело, и кузов стал быстро наполняться. Старик наблюдал краем глаза.
— Вот я и говорю: это грунт не простой. Война тысяча восемьсот двенадцатого года, Сан-Хуан Хилл,[6] Манассас,[7] Геттисберг,[8] октябрьская эпидемия инфлюэнцы в тысяча девятьсот восемнадцатом — все оставило здесь могилы: свежие, вскрытые, повторные. Кто только не ложился в эту землю, чтобы обратиться в прах, какие только доблести не смешивались в кучу, чего тут только не скопилось: ржавчина от цинковых гробов и от бронзовых ручек, шнурки без башмаков, волосы длинные, волосы короткие. Видел когда-нибудь, как делают венчик из волос, а потом приклеивают к посмертному портрету? Увековечивают женскую улыбку или этакий потусторонний взгляд, будто покойница заранее знала, что ей больше не жить. Волосы, эполеты — не целые, конечно, а так, крученые нити, — все там лежит, в перегнившей крови.