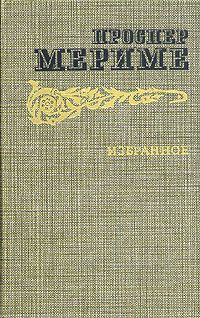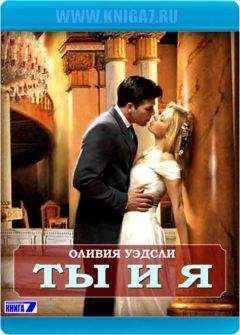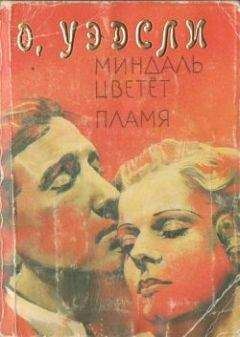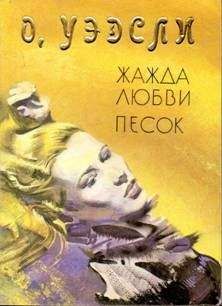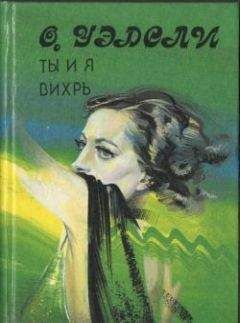Проспер Мериме - Души чистилища
— Однако, Хуанито, — прибавляла графиня, — я тоже, может быть, когда-нибудь буду так мучиться и проведу миллионы лет в чистилище, если ты не будешь заказывать мессы для спасения моей души. Как жестоко будет с твоей стороны обречь на муки мать, вскормившую тебя!
Тогда ребенок принимался плакать, и, если у него было в кармане несколько реалов, он спешил отдать их первому встречному попрошайке с кружкою для душ чистилища.
Входя в комнату своего отца, он видел там латы, помятые аркебузными пулями, шлем, бывший на голове графа де Маранья при штурме Альмерии[12] и хранивший след от удара мусульманского топора. Мавританские сабли, копья, знамена, отбитые у неверных, украшали его помещение.
— Вот этот палаш достался мне от вехерского кади[13], нанесшего мне три удара, прежде чем я поразил его насмерть, — пояснял граф. — Это знамя подняли восставшие на горе Эльвиры[14]. Они разрушили христианскую деревню. Я поспешил туда с двадцатью всадниками. Четыре раза пытался я врезаться в гущу врагов, чтобы схватить это знамя, и четыре раза они нас отражали. На пятый раз я осенил себя крестным знамением, воскликнул: «Святой Иаков!» — и смял ряды язычников. Видишь золотую чашу, украшающую мой герб? Один мавританский альфаки[15] похитил ее из церкви, которую он осквернил ужасными кощунствами. Он кормил лошадей овсом в алтаре, а его солдаты разбросали мощи святых. Альфаки пил из этой чаши святых даров замороженный шербет. Я настиг его в палатке, когда он подносил чашу к губам. Прежде чем он успел крикнуть: «Аллах!» — я рассек бритую голову этого пса, еще не успевшего проглотить напиток, моим добрым мечом, острие которого врезалось в нее до самых зубов. В память об этой священной мести король разрешил мне украсить мой герб золотой чашей. Я тебе сообщаю это, Хуанито, для того, чтобы ты рассказал своим детям, которые должны знать, почему твой герб не такой же, как герб твоего деда, славного дона Дьего, изображенный, как ты видишь, под его портретом.
Колеблясь между военным искусством и благочестием, ребенок проводил целые дни, делая из планок крестики или поражая деревянной саблей тыквы из Роты[16], очень похожие, по его мнению, на головы мавров в тюрбанах.
В восемнадцать лет дон Хуан был довольно слаб в латыни, но хорошо знал церковную службу и владел рапирой и мечом для обеих рук не хуже Сида. Отец, полагая, что дворянину из рода Маранья следует научиться еще кое-чему, решил послать его в Саламанку[17]. Приготовления к отъезду были быстро закончены. Мать дала дону Хуану множество четок, ладанок, образков. Кроме того, она заставила его выучить много молитв, весьма спасительных в разных случаях жизни. Дон Карлос дал ему шпагу, эфес который с тонкими серебряными жилками был украшен его фамильным гербом.
— До сих пор, — сказал он ему, — ты жил среди детей; отныне ты будешь жить среди мужей. Помни, что достояние дворянина — его честь; твоя же честь — честь дома Маранья. Пусть лучше погибнет последний отпрыск нашего дома, чем на его честь падет малейшее пятно. Прими эту шпагу; она защитит тебя, если на тебя нападут. Никогда не обнажай ее первый, но помни, что предки твои никогда не влагали ее в ножны, не победив или не отомстив за себя.
Вооруженный духовным и земным оружием, потомок рода Маранья сел на коня и покинул дом своих отцов.
Саламанкский университет в ту пору переживал расцвет своей славы. Никогда еще студенты его не были более многочисленны, а профессора более учены; но никогда вместе с тем горожане не страдали так от дерзости буйной молодежи, проживавшей или, лучше сказать, царившей в городе. Серенады, кошачьи концерты, всевозможные бесчинства по ночам являлись обычным ее времяпрепровождением, однообразие которого изредка нарушалось похищением женщин или девушек, воровством и потасовками. Первые дни после приезда дон Хуан разносил рекомендательные письма друзьям своего отца, посещал профессоров, обходил церкви, осматривал святыни. Выполняя волю своего отца, он вручил одному из профессоров довольно крупную сумму для раздачи бедным студентам. Такая щедрость вызвала всеобщий восторг и доставила ему множество друзей.
Дона Хуана обуревала жажда науки. Он собирался воспринять как Евангелие каждое слово, которое слетит с уст его профессоров; чтобы ничего не упустить, он решил поместиться как можно ближе к кафедре. Войдя в залу, где должна была состояться лекция, он увидел свободное место около самой кафедры и сел. Какой-то засаленный, всклокоченный, одетый в рубище студент, каких немало бывает во всех университетах, на минуту оторвался от книги и устремил на дона Хуана взгляд, выражавший необычайное удивление.
— Вы сели на это место! — сказал он ему почти испуганно. — Разве вы не знаете, что его обычно занимает дон Гарсия Наварро?
Дон Хуан возразил, что, насколько ему известно, места принадлежат первому пришедшему и что, найдя это место свободным, он счел себя вправе занять его, если только почтенный дон Гарсия не поручил своему соседу удержать это место для него.
— Сразу видно, что вы здесь новичок, — сказал студент, — и что вы приехали к нам недавно, раз ничего не слыхали о доне Гарсии. Знайте же, что это один из самых…
Тут студент понизил голос из страха, как бы его не услышали другие:
— Дон Гарсия — страшный человек. Горе тому, кто оскорбит его. У него короткое терпение и длинная шпага. Будьте уверены, что если кто-нибудь займет место, на которое дон Гарсия садился дважды, этого достаточно для ссоры, ибо он необыкновенно щепетилен и вспыльчив. Когда он ссорится, он берется за шпагу, а взявшись за нее, убивает. Ну, я вас предупредил, а вы уж поступайте, как вам заблагорассудится.
Дону Хуану показалось очень странным, что дон Гарсия притязает на лучшие места, не стараясь их даже заслужить своей аккуратностью. В то же время он заметил, что несколько студентов смотрят на него, и почувствовал, сколь унизительно будет, если он уйдет с этого места, раз уж он сел. С другой стороны, ему совсем не хотелось с первого же дня затевать ссору, тем более с человеком столь опасным, каким был, по-видимому, дон Гарсия. Таким образом, дон Хуан пребывал в большой растерянности, не зная, на что ему решиться, и машинально продолжал сидеть на своем месте, как вдруг вошел какой-то студент и сразу к нему направился.
— Вот дон Гарсия, — сказал дону Хуану его сосед.
Дон Гарсия был широкоплечий, хорошо сложенный юноша, очень смуглый, с надменным взглядом и презрительной складкой у губ. На нем был потертый камзол когда-то черного цвета и дырявый плащ, а поверх всего висела длинная золотая цепь. Известно, что студенты Саламанкского, равно как и других университетов Испании, из щегольства рядились в лохмотья, как бы желая этим показать, что истинное достоинство не нуждается в оправе, даруемой милостью судьбы.