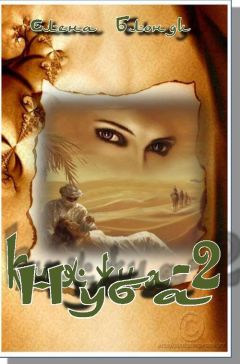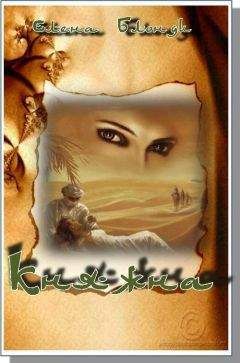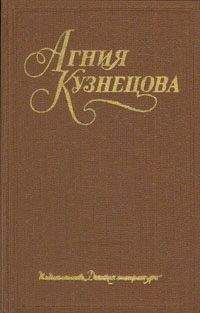Елена Блонди - Хаидэ
Казым смущенно хмыкнул, потирая колено, сурово повертел головой, разыскивая клятого шамана, который, конечно и виноват в том, что спал воин зимним сурком, ничего вкруг себя не слыша. Но через птичий ор пробивались яркие лезвия солнечных лучей, делая просторный шатер похожим на солнечную клетку. И никакого Эргоса.
— Ну, то так, так, — бормотал Казым, прихрамывая и выглядывая из-под гладких черных с серыми плешинами ветвей во все стороны.
— На то он шаман, чтоб ночью казаться, а днем невидимый, значит. Эк тебя, Казым, занесло из верной степи в шаманские мороки. Тут вижу, а тута уже и нет.
И он на всякий случай быстро поклонился на все стороны, чтоб невидимый шаман не обижался.
Степь была пуста и прекрасна. Черные тучи медленно катились по яркому небу, вспухали клубами, и когда одна закрывала свет, то золотая клетка шатра исчезала, будто навсегда. Но через пару тройку шагов Казыма возникала снова. И за узкими листьями степь загоралась бронзой и золотом.
Когда обе ноги стали одинаковы, Казым вышел на простор, вдыхая влажный после долгого дождя воздух. Внимательно рассмотрел пустые искрученные скалы, что поднимались к тучам, — на них было темно, раннее солнце сидело позади и зазубренные тени тянулись по кованым травам, полегшим от воды. Но Казым видел — пусто. На короткий свист прилетели оба коня, мотая блестящими от росы мордами. И мужчина залюбовался солнечной изморосью на сизой шкуре Полынчика.
Поговорив с обоими, легонько пихнул Полынчика в шею, отправляя пастись поблизости. А небольшие острые глаза не останавливались, снова и снова осматривая траву, темные спины камней, полускрытые стеблями, высокие мрачные лица гор, и даже небо, такое яркое, что казалось, просунь палец меж крутых облаков и упрешь его в звонкую синеву. Он не знал, сколько ждать, но был терпелив и готов ко всему. А на черного Брата смотрел так же часто, как на пустую степь, ожидая знака, если конь услышит раньше — врагов или свою княгиню.
И один из быстрых взглядов показал ему — конь что-то услышал. Казым встал спиной к дереву, быстро оглядывая гулкую степь, полную птиц и осенних бабочек. А вот и Полынчик вскинул серую золоченую морду, прянул острыми ушами.
В миг подскочив, Казым взлетел в седло и вполголоса велел Брату:
— Кажи, откуда?
Тот коротко и тоже тихо заржал, топчась и вскидывая морду к северу от скал. Там, за россыпью черных валунов, степь поднималась плавным холмом с полынной плоской макушкой. На ней торчал большой куст шиповника, весь в мелких поздних цветах.
Казым, двигаясь к скалам, подал коня в черную тень. Под самой горой добрался к основанию холма, спрыгнув, бросил поводья. Кони молчали, послушно замерев там, где их оставил воин. Сам, пригибаясь и почти ложась на мокрую траву, быстро, как ящерица, двинулся вверх, не поднимая головы и глядя перед собой исподлобья. Куст возвышался над ним, и Казым, преодолев длинный склон, залег, стараясь не шевелить пучки длинной осоки, растущие вокруг тонких стволиков. Заглядывая сквозь прутья, усыпанные шипами, поморщился. Дальние пространства степи, плавно, как тихие волны, поднимались холмами и опускались широкими ложбинами. И у края, что уходил в небо, насыпаны по траве еле видные черные точки.
Казым опустил голову, прижимая ухо к влажной земле. Не слыхать. Далеко еще всадники, если б не Брат, еще гулял бы и песни пел, пока сам не услышит. По шее побежали холодные капли с потревоженной травы. Щекоча, сунулись к уху, стекли на грудь под рубаху. Не поднимаясь, Казым пополз обратно к подножию холма. У степняков бывают сторожевые соколы, летят над всадниками, глядят вниз. Хоть и далеко конники, лучше зря не маячить.
Рядом с конями Казым поднялся, встряхиваясь, как пес.
— Еще бы сказал — кто такие. А?
Но Брат косил выпуклым глазом, перебирал стройными ногами. Казым задумался. Кони — хорошо, сейчас уйдет он верхами влегкую. Но ему ж не надо. А надо остаться. Был бы сам — полез в скалы, схоронился. А этих куда? И времени мало — думать.
Он забрал в руку поводья и быстро пошел к дереву, уже не заботясь — увидят ли его сверху. Заводя коней под низкие ветви, позвал негромко:
— Эргос? Старший ши славного Патаххи, и сам нынче — небесный шаман! Ты заберешь коней?
Замолчал, прислушиваясь к стрекоту кузнечиков снаружи и воплям птиц на верхних ветвях. Кони, всхрапнув, потянулись мордами к чему-то, пошли медленно, пересекая солнечный шатер у толстого, перевитого корнями ствола. Повод пополз из ладони Казыма, и он разжал пальцы, вдруг сильно затосковав. Шагнул следом за толстый ствол, куда зашли кони, и сказал в звонкую пустоту:
— Сбереги. Далеко не веди, как позову, чтоб — сразу.
Вышел на свет и между струек пара, которые солнце вытягивало из влажной земли, сплетая прозрачными косами и расплетая снова, — пошел к темным скалам, высматривая место, где проще залезть к высоким расщелинам, укрытым яркой зеленью.
За четыре дня пути мерного конского хода от горного побережья Патахха, сидя у маленькой палатки, отложил к ногам недоплетеную корзину, закрыл глаза, перебирая по старым кожаным штанам сухими пальцами.
Много всего вмещала стариковская голова. И что успел прожить и запомнить, и что знал от отцов, а еще — мысли. Опасения, уверенности, надежды и безнадежности. Иногда казалось ему — не голова, а гулкий огромный котел, в который жизнь бросает то понемногу, а то — полными горстями, щедро, перемешивает, ставит на огонь, сыплет сверху шепоти пряных трав. И варево булькает, источая странные запахи. Кому пробовать то, что изготовилось? И — когда? А сам старик, маленький, тощий, с хромой ногой и высушенными долгой жизнью руками, да разве ж хватит старого рта, в котором уже и зубы не все, чтоб выхлебать целый котел?
Не открывая глаз, нащупал плетево и снова примостил на колени. Ткнул прутик, промахнулся, уколов ладонь острым кончиком. Эк придумал, про голову с похлебкой. А сердце ноет и ноет. Потому что видит он больше, чем может поправить. Или даже указать. Или просить кого, чтоб помогли. Ничто никуда не ушло, не утекло в голову Эргоса, опустошив его собственный разум. — Все, чем поделился с молодым, все осталось при старике. И тяжесть знаний спускается из головы в сердце.
Она там, ушла за маленьким князем. И это правильный шаг. А перед тем сказала, что будет помогать и спасать, на сколько достанет ей сил. И это шаг не просто верный, а шаг вверх. Там, внутри горы, все сошлось. Ей придется спасать сына и помогать целому народу. И не только справиться тойрам со своей ленью и беспамятством. Есть еще те, кто приближается из степей. Снаружи Казым, бережет ее черного коня. Кто поможет Казыму, пока его княгиня внутри горы? Кто поможет тойрам, над которыми висит черная угроза, давит и жмет с двух сторон — из собственных душ и от пришлых врагов? Кто поможет сестре ее Ахатте, которая спит больным сном в своем временном доме, а сама уже помечена злом, приготовлена к нему, как готовят овцу, ставя на курчавом боку знак? В чьих руках должны сплестись нити, чтоб получился не корявый узел, а полотно судеб, сотканных в общую судьбу? Беслаи? Но, похоже, и ему нужно помочь в этот раз. Какой шаг надо совершить и кто кивнет старому шаману — ты идешь верно, Патахха, и пусть твои ши следуют за тобой?…