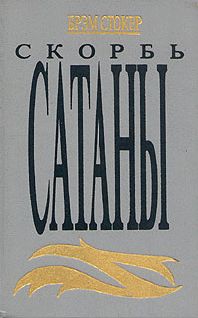Брем Стокер - Скорбь Сатаны (Ад для Джеффри Темпеста)
В этот момент входил Амиэль, неся мне телеграмму на серебряном подносе. Я открыл ее: она была от моего приятеля, редактора, и содержала следующее: «Принимаю книгу с удовольствием. Пришлите рукопись немедленно».
Я показал ее с триумфом Риманцу. Он улыбнулся.
– Само собой разумеется! Что же другое вы ожидали? Только этот человек должен был иначе написать свою телеграмму, так как я не могу предположить, чтоб он принял вашу книгу с удовольствием, если б не рассчитывал хорошо на ней нажиться. «Принимаю деньги за издание книги с удовольствием» – было бы вернее. Хорошо, что же вы намерены делать?
– А вот это я сейчас увижу, – ответил я, чувствуя удовлетворение, что наконец-то пришло время для отмщения некоторым моим врагам. – Книга должна быть в печати как можно скорее, и я с особенным удовольствием лично займусь всеми относящимися к ней деталями. Что же касается остальных моих планов…
– Предоставьте их мне, – сказал Риманец, властно кладя безукоризненной формы руку на мое плечо, – предоставьте их мне! И будьте уверены, что без долгого ожидания вы подниметесь наверх, как медведь, удачно достигнувший лепешки на вершине смазанной жиром мачты, – зрелище для зависти людей и удивление для ангелов.
VII
Три или четыре недели пролетели, как вихрь, и к концу их я с трудом узнавал себя в праздном, беспечном, экстравагантном светском человеке, которым я неожиданно сделался. Иногда, случайно, в уединенные минуты, прошедшее возвращалось ко мне, как в калейдоскопе, проносились неприглядные картины минувшего, и я видел себя голодного, плохо одетого, склонившегося над бумагами в своей унылой квартире, несчастного, но среди всего своего несчастия, однако, получавшего отраду в мыслях, которые создавали красоту из нищеты и любовь из одиночества. Эта творческая способность теперь спала во мне, я делал очень мало, я думал еще меньше. Но я чувствовал, что эта интеллектуальная апатия была только преходящей фазой – умственными каникулами и желанным отдыхом от мозговой работы, на который я заслуженно имел право после всех страданий бедности и отчаяния. Моя книга печаталась, и, может быть, самым большим удовольствием, из всех, которыми я теперь пользовался, была для меня корректура первых листов, по мере того, как они поступали мне на просмотр.
Между тем, даже это авторское удовлетворение имело свой недостаток, и мое личное неудовольствие было каким-то странным. Я читал свою работу, конечно, с наслаждением, так как я не отставал от своих собратьев, думая, что все, что я делал, было хорошо, но мой снисходительный литературный эгоизм был смешан с неприятным удивлением и недоверием, потому что моя работа, написанная с энтузиазмом, обсуждала чувства и твердила о теориях, в которые я не верил. Как это случилось? – спрашивал я себя. Зачем же я вызывал публику принять меня по фальшивой оценке?
Эта мысль ставила меня в тупик. Как я мог написать книгу, совершенно не похожую на меня, каким я теперь знал себя?
Мое перо, сознательно или бессознательно, написало то, что мой рассудок всецело отвергал, как, например, веру в Бога, веру в предсказанный прогресс человека. Я не верил ни в ту, ни в другую из этих доктрин. Когда мной овладевали безумные сны, что я – бедняк, умирающий с голода, не имевший друга в целом свете, то, вспоминая все это, я поспешно решил, что мое так называемое «вдохновение» было действием изнуренного мозга. Но, тем не менее, было нечто утонченное в поучительности истории, и однажды днем, когда я занимался пересмотром последних корректурных листов, я поймал себя на мысли, что книга была благороднее, чем ее автор. Эта идея причинила мне внезапную боль. Я бросил свои бумаги и остановился у окна. Шел сильный дождь, и улицы были черны от грязи; промокшие пешеходы имели жалкий вид, вся перспектива казалась печальной, и факт, что я был богатым человеком, не преодолел уныния, незаметно закравшегося в меня. Я был совершенно один, так как я теперь имел свой собственный ряд комнат в отеле, недалеко от тех, которые занимал князь Риманец. Я также имел своего слугу, порядочного человека, который мне нравился скорее за то, что разделял мое инстинктивное отвращение к княжескому лакею Амиэлю. Затем я имел своих лошадей и карету, кучера и грума, так что князь и я, будучи самыми задушевными друзьями на свете, должны были, избегая той «фамильярности», которая вызывает презрение, поддерживать каждый свой отдельный «имидж». В этот особенный день я был в более отвратительном расположении духа, чем в дни моей бедности, хотя, с рассудительной точки зрения, мне не о чем было горевать. Я обладал громадным состоянием, я пользовался прекрасным здоровьем и имел все, что хотел, сознавая, что если бы мои желания увеличились, я легко могу удовлетворить их. Под руководством Лючио пресса работала с таким хорошим результатом, что я видел свое имя в каждой лондонской газете, как «знаменитого миллионера». И для пользы публики, к сожалению, несведущей в этих делах, я могу пояснить, как неприкрашенную истину, что за четыреста фунтов стерлингов «Факт. (Прим. Автора).» хорошо известное «агентство» гарантирует помещение все равно какой, лишь бы не пасквильной, статьи, не менее, как в 400 газетах. Таким образом, искусство «рекламирования» легко объясняется, и публика в состоянии понять, почему некоторые имена авторов постоянно встречаются в печати, тогда как другие, быть может, более достойные, остаются в неизвестности. Заслуга ставится в этих случаях ни во что, – за деньги приобретается все.
Настойчивое упоминание моего имени с описанием моей наружности и моих «удивительных литературных дарований», вместе с почтительными и довольно явными намеками на «миллионы», которые и делали меня таким интересным (статья была написана самим Лючио и передана в вышесказанное «агентство» с придачей кругленькой суммы), – все это, я говорю, доставило мне две напасти: во-первых, целую гору приглашений на общественные и артистические должности, а во-вторых – непрерывный поток просительных писем. Я был принужден завести секретаря, занимавшего комнату недалеко от моего «отделения» и буквально целый день заваленного работой. Излишне говорить, что я отказывал на все денежные просьбы: никто не помог мне в моих бедствиях, кроме старого товарища Босслза; никто, кроме него, не сказал мне даже доброго слова. И я решил теперь быть таким же жестоким и таким же беспощадным, какими тогда я нашел своих собратьев. Я со злорадством прочел письма двух-трех литераторов, просящих занятия, «как секретаря или компаньона», или немного денег «взаймы», чтоб «перебиться с затруднениями». Один из этих просителей был журналист в хорошо известной газете, который обещал найти мне работу и который вместо того, как я потом узнал, сильно отговаривал редактора дать мне какое-нибудь занятие. Он не воображал, что Темпест – миллионер и Темпест – наемный писатель были одно и то же лицо – так мало вероятия, чтобы богатство могло выпасть на долю автора! Я ответил ему сам лично и сказал ему то, что, я считал, он должен был знать, прибавляя свою саркастическую благодарность за его дружелюбную помощь в дни моей крайней нужды, – и в этом я вкушал наслаждение мести. Я никогда больше о нем не слыхал, и я уверен, что мое письмо дало ему материал не только для удивления, но и для размышления. Между тем, несмотря на преимущества, какими я теперь пользовался, я не мог по совести сказать, что я был счастлив. Я знал, что я был одним из людей, которому больше всего завидовали, а между тем… Когда я стоял и смотрел в окно на непрерывно идущий дождь, я чувствовал скорее горечь, чем сладость в полной чаше богатства. Многое, от чего я ожидал необыкновенного удовлетворения, оказалось бесцветным. Например, я завалил прессу тщательно изложенными и бросающимися в глаза рекламами о моей книге, и когда я был беден, я рисовал себе картину буйного веселья, какому я предался бы в этом случае, но теперь меня даже это почте не занимало; мне надоело видеть свое собственное имя в газетах. И хотя я с понятным интересом ожидал издания моего труда, но сегодня и эта мысль потеряла свою привлекательность из-за нового и неприятного впечатления, что содержание книги было совершенно противоположно моим истинным мыслям. Улицы сделались темными от тумана и дождя, и, почувствовав отвращение к погоде и к самому себе, я отвернулся от окна и уселся в кресло у камина, мешая уголь, пока он не запылал, и придумывая способ, как бы избавить свой дух от мрака, который угрожал окутать его таким же густым покровом, как лондонский туман.