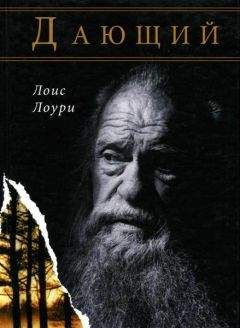Сергей Саканский - Мрачная игра. Исповедь Создателя
Он существовал с женщиной, которая была ему отвратительна во многих смыслах, кроме одного. Она лишила его невинности и несколько лет любила, кукла, способная лишь вращать шарнирами для принятия различных поз. Она представляла собой весьма приличный снаружи, но скользкий и липкий внутри – мешок, снабженный различными отверстиями для ввода-вывода веществ: шоколада, дерьма, мочи, спермы и так далее – это был хорошо развитый, еще не изношенный организм, страдающий лишь несколькими легкими недостатками, как то: близорукость, обжорство, похотливость, – он назывался «Полина» и имел статус невесты Ганышева, что, в свою очередь, не могло не придать Ганышеву ответного, возвратного статуса жениха, именно он, этот организм, и явился тем провокатором, который привел Ганышева от игры к преступлению, заставил Р.С.Ганышева делать деньги, и это был я.
Он работал или, лучше, служил программистом на секретном предприятии, которое в силу своего дурацкого наименования, всегда представлялось ему в виде гигантского ящика с вырезом для писем, куда проваливались, однако, маленькие пластилиновые человечки. Это была одна из типичных, жестоких и довольно милых заморочек прежней жизни: Ганышев был пацифистом, он не хотел служить в армии; предприятие освобождало Ганышева от воинской обязанности; предприятие делало бомбы. Вся нематериальность, естественность и – в конечном счете – прелесть советской жизни иллюстрировалась, в данном случае, тем, что ни одно из этих страшных, коварных устройств не причинило никому вреда: все они, несколько лет пропутешествовав по территории страны, вернулись, наконец, обратно, где были, правда, уже без Ганышева, демонтированы на мирные нужды, но мы тогда об этом не знали, мы болели обязательным юношеским диссидентством, как триппером, и Ганышев тоже витийствовал на кухнях, и сочинял опусы с фигой в кармане, и все это растворилось и выпало в осадок, и смылось в дренаж, и даже его тогдашняя набожность, как выяснилось впоследствии, оказалась лишь причудливой формой тайного нонконформизма… Как, когда, каким образом из этого далекого, в перспективе маленького человечка, получился я?
Я сквозь разобранные храмы, крестясь и плача, проходил и падал, выбившись из сил, ничком на высохшие травы. Я был на равных с мудрецами великодушными, когда в колодцах облачных мерцали цепями улиц города.
И даже так.
Я каждый год справляю тризны по мертвой родине моей, я ухожу из прежней жизни ежеминутно вместе с ней. Из тьмы веков, из тьмы упругой, глазами яда и огня, как женщина, глазами Юга, глядит Россия на меня. Почти слепой во тьме кромешной вбираю соль там-там-там… губ… И сам, давно уже умерший, люблю ее прекрасный труп.
Там Гумилев, тут Мандельштам, все вместе, в оправе прозы, немного Набоков, хотя – можно заметить – не эпигонство, а официальная постмодернистская вариация.
ОФИЦИАЛЬНАЯ СМЕНА ЛИЦА
Рома Ганышев, бедный, едва сводивший концы с концами молодой программист, сутулый и невзрачный, и Гена Хомяк, его лучший и единственный друг, его антипод, здоровый и красивый мужчина, богатый наследник, владетель жизни, также, между прочим, молодой программист, как-то ясным холодным утром осени 1986 года, в праздник Покрова, посетили церковь Воскресения, что на Успенском Вражеке, точнее, на улице Неждановой, и там, в таинственной и ложной, плохо сфокусированной реальности воска, лучей, зычного голоса, Ганышев впервые увидел ее…
– Не может быть: православная негритянка!
– Скорее всего: аскалка. Я сам за ней давно наблюдаю…
Видимая в профиль, она беззвучно шептала слова молитвы, свеча в ее пальцах трепетала от ее дыхания, белоснежный русский платочек темнил ее, впрочем-то, довольно светлую для аскалки кожу, и многие присутствующие в храме искоса поглядывали на нее.
Она почувствовала взгляды, обернулась и нежданно, в этой слезами блестящей вариантности, встретилась с Ганышевым на несколько мгновений, и луч ее заставил его содрогнуться. Увы – нельзя было не любить это лицо.
Долгие годы невыносимой тоски и одиночества моя душа все дальше и дальше отходила от тела, и жизнь, которую я живу, пока нет тебя, все более кажется мне нереальной, призрачной, а настоящая моя жизнь там, где ты, да, пусть я была гадкой строптивой девчонкой, может быть, я и осталась ею, но та, которая все эти годы ждет тебя, и есть девушка, ушедшая в монастырь, как и было обещано, девушка-доппельгангер, даже помыслом не изменившая тебе. Это выглядит так: будто из меня нынешней вышла другая, разорвав в кровь мою оболочку, и эта другая – белая, светлая – приняла душ, смыв остатки чужой крови, гнилых вен, одела чистое белое платье…
От пустоты времени и по многим другим понятным причинам я заучил наизусть и эти слова, и все остальные ее письма… Почему-то у меня больше не получались стихи.
– Может, подождем ее на паперти, интересно… – предложил Хомяк.
– Зачем это? – возразил Ганышев, но, спустя час, когда они, следуя карикатурной беспечности тех лет, бросавшей каждого из нас в непостижимые крайности, штурмовали вместе со всеми винный магазин, у Ганышева засосало под ложечкой от этой невстречи, этого неизлома реальности, и еще через час, откупорив и выпив, Ганышев совсем сник от этой несостоявшейся любви.
Облик дачи, которую он не видел с весны, не обрадовал его, к тому же, родители Хомяка, прожив здесь сезон, сделали перестановки, к которым еще надо было привыкнуть. У антикварного рояля, царившего посередине гостиной, почему-то исчезла крышка с клавиатуры, и инструмент приобрел откровенную белозубую улыбку. На многих дверях – совсем уж непонятно, для чего – появились новые, блестящие хромом щеколды, будто члены семьи внезапно возненавидели друг друга…
Целомудренное утро, осененное церковной чистотой, перешло в глухой дачный вечер, когда с чуждой немецкой пунктуальностью действительно повалил снег, и друзья, затопив камин, продолжали жрать портвейн, говорили о политике, о науках и искусствах, о женщинах.
– Эти аскалки очень хороши в постели (немного икая). Никогда себе этого не прощу, где ее теперь искать?
– Нет ничего проще (все просто, когда есть портвейн). Она была в этой церкви сегодня, почему бы ей не пойти в следующее воскресенье?
– Точно, прямо на паперти. Она роняет платок, нагибается, и молодой человек, с массой тончайших, остроумнейших комплиментов…
Всю эту хмельную ночь, холодея под ватным одеялом, Ганышев занимался фантазиями – и простыми эротическими, и глубокими духовными, как всегда в подобных случаях, если какая-нибудь девушка бросала на него взгляд, он программировал собственный вариант реальности, и упущенный случай вырастал в быстро проговариваемую повесть – с нежнейшим диалогом, с живыми призраками улыбок, с неминуемым катарсисом – липким, горячим, постыдным…