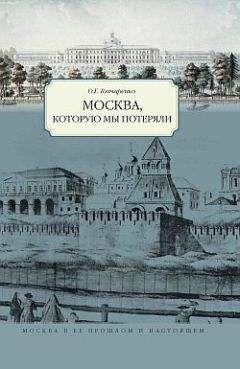Олег Маркеев - Таро Люцифера
Через дыру в ограде возле самой реки они проникли к поверженным вождям и с комфортом устроились в беседке. Леонид разложил на столе закуску и праздник продолжился.
* * *Несостоявшийся утопленник Константин еще два раза бегал за водкой, которая уже потеряла всякий вкус и пилась легко, словно ключевая вода.
Сидели хорошо, дружно и мирно. Спившийся пролетарий, непризнанный поэт, живой классик и арбатский художник за одним столом могут сойтись только в России. Так уж устроена эта страна и ее люди.
В Америке «господин Кольт» уровнял всех, а «мистер доллар» сделал прилизанно-политкорректными. В России водка сводит всех к общему серому среднестатистическому знаменателю. Пьяненький, он же — вне сословий, чинов и условностей. Он не над жизнью. Он в самом ее центре. В центре миргородской лужи лежит, блаженный и тихий, прижавшись к теплому боку свиньи, под миролюбиво-бдительным взглядом околоточного, тоже, кстати, с утра «под шафэ».
Кем ты был, кем ты станешь, когда протрезвеешь и выберешься из лужи, не суть важно. Главное знать, когда будешь жить чином, должностью и условностями, что всегда есть под рукой средство обрести если не истину, то хотя бы временно блаженство. Три по сто — и твоей измученной душе обеспечена экскурсия в рай. Нет, пьянство русское не болезнь, а дезинфекция души. Проспиртованная душа дольше сохраняется под хмурым небом родины.
Понемногу мутная волна веселья отхлынула, и над кладбище бронзовых истуканов невидимым пологом опустилась умиротворяющая тишина. Настал тот богололепный миг, про которой говорят — «тихий ангел пролетел». Впрочем, есть еще одно определение — «мент помер». Ну, это кому как нравится.
Но пьяный разговор в разнобой сами собой стих. Водка, притравив мозг, добралась до души. И каждый загрустил о своем.
Корсаков надвинул шляпу на глаза, скрестив руки на груди, откинулся на спинку скамейки и удобно вытянул ноги под столом. Катал в губах сигарету, роняя пепел на грудь. Тешил в себе боль, осторожно отколупывал одну за одной коросточки с души. Некоторые отпадали засохшими струпьями. Большинство сочили кровью пополам с белесым гноем. Он знал, скоро потребуется продезинфицировать ранки водкой. Но на это счет особо не беспокоился. Чего-чего, а жидкости для промывки душевных ран сегодня было в избытке.
Примак неожиданно всхлипнул. Промокнув рукавом слезящиеся глаза, он налил всем.
— Знаешь, из-за чего я из Лондона сорвался? — обратился он к Корсакову, почему-то игнорируя Поэта и Германа.
Произнес Леня на удивление трезвым голосом, вся пьяная дурь куда-то испарилась. Корсаков насторожился. По себе знал, эти мгновенья кристальной ясности сознания посреди бурной пьянки — штука страшная.
«Лучше уж на баррикады, чем с покоцанными венами морочиться, — подумал Корсаков. — Вот, черт, не ко времени! Как сердцем чувствовал, не к добру эта пьянка».
— Ну? — нехотя спросил он.
Примак свесил голову. Поболтал водку в стакане.
— Приперло по-взрослому, — глухо пробормотал он. — Я же не сказал, Игореша, а я же еще в Лондоне развязал. Такие дела! Сидел в мастерской, как, блин, в расстрельной одиночке. И чувствую, накатывает. Думал, перетерплю. В угол забился. Там моя фашистка иконы развесила. Типа, а-ля «рус изба». Перед клиентам выеживаться. Только не смейся, я молюсь, когда припрет. И тогда об пол башкой стучал, молил, чтобы пронесло… Потом плюнул, выскочил в шоп, купил бутылку «Джона». Назад прибежал. И прямо из горла. — Он потянул стакан ко рту, но не донес, уронил руку. — Приход сразу кайфовый. Внутри все отпустило, каждый узелок на нервах развязался. И тепло пошло. Как в песок горячий зарылся. Лежу, кайфую. Сам черт мне не брат. И тут торкнуло.
Примак тяжело вздохнул. Герман, наиболее осведомленный о всех стадиях алкогольных приходов и вариаций белой горячки, сочувственно покачал головой.
— Чувствую, трезвею с дикой скоростью, — понизив голос, продолжил Примак. — Я полста в себя раз, раз, раз! Как вода. Только еще хуже. Как стеклышко стал. И что делать с собой таким, не знаю. И тут такая тоска накатила!
Леня поднял синюшно-бледное лицо.
— Из окна хотел… Но там низко. Только покалечился бы. — Он покусал дряблую губу. — Я, Игорек, лезвием себя решил. Классная у меня там заточка для карандашей. Ни разу не пользовался. Так в упаковке и валялась. Пристроил я лезвие к вене. И совсем протрезвел. Понял, сделаю. Бывает же такое, безо всяких знаешь — сделаешь. И плевать, что потом о тебе подумают. Сам за себя решаешь. Может, первый раз в жизни.
Герман попытался встрять, но Поэт тихо ткнул ему локтем в ребра.
Примак не спускал измученного взгляда с лица Корсакова. Казалось, пытается прочитать на нем что-то очень важное для себя.
Игорек, только не смейся. Не надо, — жалобно сморщившись, попросил он. — Увидел я Его. Понял о ком, да?
— Обычно, чертей зеленых видят. — Корсаков попробовал все перевести в шутку.
Герман одобрительно кивнул. И больше головы не поднял. Так и застыл, свесив нос в стакан.
— Черти — это фигня, — отмахнулся Леня. — Пройденный этап. А тут Он!
Примак через силу потянул стакан к губам. Но опять не донес.
— Поднял глаза… А Он напротив на табуреточке пристроился. Стакан в пальцах крутит. Сам весь в белом. И свет от него — белый. Смотреть больно. Я одной половиной соображаю, что все — «белка». А другой — верю. Понимаешь, верю! А потом и целиком поверил. Полностью! И даже страх прошел. Только сказать ничего не могу.
Леня стал в лицах изображать сценку, как плохой актер, слишком активно «щелкая лицом».
— Он, значит, из стакана пригубил. Отодвинул его, вот так. И так мне в глаза посмотрел… Я думал, помру! И сказал Он: «Плохо тебе, Ленька?» Я молчу. Что тут сказать? А он смотрит, как… Слов даже подобрать не могу. Словно ему кишки на кулак мотают. И говорит: «А мне каково, ты хоть раз подумал? То-то». Встал. Свет аж до потолка взметнулся. А потом — темнота. Очнулся я… А на столе два стакана. Мой — пустой. И его — на два пальца виски. Тут я и сдернул. «Евростар», Париж… Сам от себя бежал. Клянусь, Игорек, только о тебе всю дорогу и думал! Не знаю, почему, но чуял, если найду тебя, то только ты сможешь помочь. Хоть советом…
От Примака так пахнуло сухим жаром безумия, что Корсаков невольно поежился. Не стоило труда догадаться, что Ленька неспроста заявился на Арбат и чуть ли ни силой утащил к себе. Хотел выговориться, выплеснуть из себя то запредельное, что открылось то ли в алкогольном бреду, то ли в секунду предсмертной ясности сознания. Не суть важно, когда и как открылось, главное, что Ленька не врал, нутром почувствовал Корсаков. Видел, видел Примак, сидел рядом, дышал одним светоносным воздухом. И отравлен им теперь до конца дней.