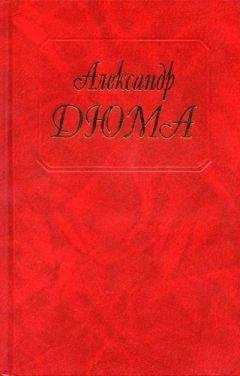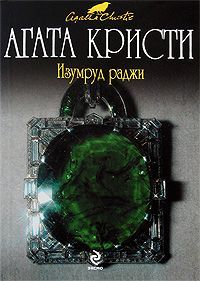Александр Дюма - Тысяча и один призрак
Кликнув экипаж, я проводил ее до угла Фоссе-Сен-Бернард; я вышел из экипажа, она поехала дальше. Всю дорогу мы держали друг друга в объятиях, не произнося ни слова, и горечь наших слез смешивалась на губах со сладостью наших поцелуев.
Я вышел из экипажа, но вместо того, чтобы отправиться, куда мне было нужно, стоял на месте и смотрел вслед экипажу, уносившему ее. Через двадцать шагов экипаж остановился. Соланж высунулась из окна, как бы чувствуя, что я еще не ушел. Я подбежал к ней, вошел в экипаж, запер окна и еще раз сжал ее в объятиях. На башне Сен-Этьен-дю-Мон пробило девять. Я вытер ее слезы, запечатлел тройной поцелуй на ее губах и, соскочив с экипажа, удалился почти бегом.
Мне показалось, что Соланж звала меня; но могли обратить внимание на ее слезы, ее волнение, и я проявил роковое мужество и не обернулся.
Я вернулся к себе в отчаянии. Я провел день в писании писем Соланж; вечером я отправил ей целый том писем.
Только я опустил в почтовый ящик письмо к ней, как получил письмо от нее. Ее очень бранили; ее забросали вопросами, угрожали лишить отпуска – а первый отпуск был намечен на следующее воскресенье. И Соланж клялась, что в любом случае, даже если ей придется поссориться с начальницей пансиона, она увидится со мною в этот день.
Я клялся ей в том же. Мне казалось, что если я не увижу ее целую неделю, – а это случится, если ее лишат отпуска, – то сойду с ума.
Сама Соланж проявляла сильное беспокойство. Ей показалось, что письмо от отца, которое она получила по возвращении в пансион, было предварительно распечатано.
Ночь я провел ужасно, но еще более ужасным выдался следующий день, хотя письмо от Соланж я, по обыкновению, получил. Так как это был день моих исследований, то я к трем часам отправился к брату, чтобы взять его с собою в Кламар.
Брата дома не оказалось, и я пошел один.
Погода была ужасная. Печальная природа разразилась дождем, – тем бурным, холодным потоком дождя, который предвещает зиму. В продолжение всей дороги я слышал, как глашатаи выкрикивали хриплыми голосами обширный список осужденных в тот день: тут были мужчины, женщины, дети. Кровавая жатва была обильна – следовательно, недостатка в объектах исследования у меня быть не могло. Световой день в то время был уже короток, и когда в четыре часа я пришел в Кламар, уже совсем стемнело. Сам вид кладбища, множество свежих могил, редкие, похожие на скелеты деревья, трещавшие от ветра, – все казалось мрачным и отвратительным. Все, что не было вскопано, заросло травой, чертополохом, крапивой. Но земли, покрытой травой, с каждым днем становилось все меньше.
Среди всей этой вскопанной почвы зияла яма сегодняшнего дня и ждала свою добычу. Предвидели большое количество осужденных, и яма была больше, чем обыкновенно.
Я машинально подошел к ней. На дне стояла вода. Бедные, холодные, обнаженные трупы, – их бросят в эту воду, холодную, как и они!
Подойдя к яме, я поскользнулся и чуть было не свалился туда – волосы у меня встали дыбом. Промокший и дрожащий, я направился в свою лабораторию.
Это была, как я уже сказал, старая часовня. Я поискал глазами, – почему, не знаю, – не осталось ли на стене или там, где был алтарь, следов культа. Ни на стене, ни на месте алтаря ничего не было. Там, где находилась когда-то дарохранительница, то есть Бог и жизнь, теперь царствовала смерть.
Я зажег свечу и поставил ее на стол для опытов, весь заставленный инструментами странной формы, которые изобретены были мною. Я сел и предался размышлениям о бедной королеве, которую я видел столь красивой, столь счастливой, столь любимой, а накануне, когда ее везли в тележке на эшафот, толпа сопровождала ее проклятиями. Теперь же, в этот час, после того, как голову ее отделили от туловища, она покоилась в гробу для бедных, – она, спавшая среди золоченой роскоши Тюильри, Версаля и Сен-Клу.
Пока меня обуревали эти мрачные размышления, дождь усилился, задул свирепый ветер. К завываниям ветра присоединились мрачные раскаты грома, только гром этот грохотал не в облаках, а над землей – то был грохот кровавой телеги, приехавшей с площади Революции и въезжавшей в Кламар.
Дверь маленькой часовни открылась, и два человека, с которых струилась вода, внесли мешок. Один из них был Легро, которого я посетил в тюрьме, другой – могильщик.
«Вот, господин Ледрю, – сказал помощник палача, – к вашим услугам. Вам нечего торопиться сегодня вечером; мы оставляем у вас всю свиту до завтра. Они не схватят насморка, проведя ночь на свежем воздухе».
И эти два служителя смерти с отвратительным смехом положили мешок в угол, возле прежнего алтаря.
Затем они ушли, не заперев дверь, которая стала хлопать; от ворвавшегося ветра пламя свечи заколебалось; свеча горела тускло, стекая около черного фитиля.
Я слышал, как они отвязали лошадей, заперли кладбище и уехали, бросив телегу, полную трупов.
Мне страшно хотелось уйти с ними, но что-то меня удержало; я остался, хотя и дрожал. Я не боялся, но вой стихии, шум дождя, треск ломавшихся деревьев, порывы ветра, задувавшие мою свечу, – все это наводило на меня ужас, и мелкая дрожь пробегала по всему телу, начиная от корней волос.
Вдруг мне показалось, что я услышал тихий, умоляющий голос, мне показалось, что голос этот произносил мое имя – Альберт.
Я вздрогнул. Альберт – только одно лицо на свете называло меня так.
Я испуганно оглядел часовню; хотя она была мала, но свеча моя недостаточно освещала ее стены. Я увидел в углу престола мешок; окровавленный холст и выпуклость указывали на его зловещее содержимое.
В ту минуту, когда глаза мои остановились на мешке, тот же голос, но еще более слабый и жалостливый, повторил мое имя: «Альберт!»
Я вздрогнул и вскочил от ужаса: этот голос раздавался изнутри мешка.
Я стал ощупывать себя, дабы выяснить, во сне я или наяву; затем, сразу как бы окаменев, я с протянутыми руками пошел к мешку и погрузил в него руку.
Мне показалось, что руки моей коснулись еще теплые губы.
Я дошел до такого состояния, когда самый ужас придает нам храбрость. Взяв эту голову и подойдя к креслу, я упал в него и положил голову на стол.
И вдруг я испустил отчаянный крик – голова, губы которой казались еще теплыми, глаза которой были наполовину закрыты, эта голова принадлежала Соланж!
Мне казалось, что я сошел с ума. Я прокричал трижды:
«Соланж! Соланж! Соланж!»
При третьем крике глаза открылись и взглянули на меня; из них выкатились две слезы, и глаза, сверкнув влажным блеском, словно отсветом отлетающей души, закрылись, чтобы больше уже никогда не открываться.
Я вскочил в бешенстве и негодовании и, охваченный безумием, хотел бежать, но зацепился полою одежды за стол; стол упал и увлек за собою свечу, которая погасла. Голова покатилась, а я устремился в отчаянии за нею. И вот, когда я лежал на земле, мне показалось, что голова эта приблизилась к моей, губы ее прикоснулись к моим; холодная дрожь пронизала мое тело, я испустил стон и потерял сознание.