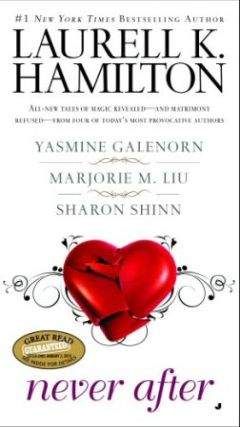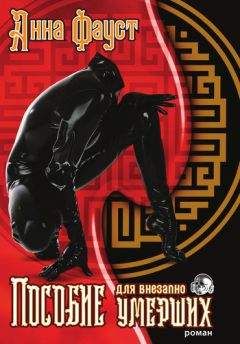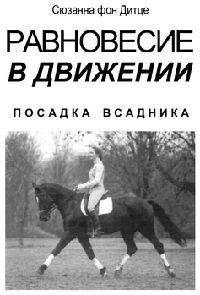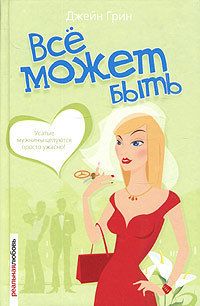Лорел Гамильтон - Обсидиановая бабочка
Он свалился на колени, и вдруг его лицо выглянуло из дыма. Я почти в упор выстрелила ему в грудь, и он завалился на спину, пропадая в дыму, будто упал в облака. Я осталась лежать и сообразила, что мне видны его ноги. На уровне пола дым уже почти исчез – одна из многих причин, по которой Эдуард велел ползти.
– Это я, – сказал Эдуард раньше, чем выполз из дыма.
Разумно было с его стороны меня предупредить – палец у меня оставался на спуске, и я стала понимать, как иногда в боевой ситуации можно случайно подстрелить друга, если не поостеречься.
Он прополз вперед, и дым уже настолько рассеялся, что я увидела, как он щупает пульс упавшему.
– Оставайся здесь, – сказал он и исчез в остатках дыма.
Это мне не понравилось, но я осталась на полу возле убитого мною человека и стала ждать. Нравится мне или нет, а мы сейчас ведем бой такого типа, в котором я почти ничего не понимаю. Как-то я попала в другую жизнь Эдуарда, и он здесь лучше меня умел оставаться в живых. Так что я буду делать то, что мне говорят. Практически у меня это единственная надежда выбраться живой.
Эдуард вернулся – шагая, а не ползком. Наверное, хороший признак.
– Здесь чисто, но ненадолго. – В руках у него были ключи, взятые у Райкера. – Пошли.
Он отпер камеру, где должен был находиться Питер, и, не успев даже распахнуть дверь, пошел к той камере, где была Бекки. Очевидно, Питера вывожу я. Припав на колено, я распахнула дверь так, что она дошла до стены. Никто за ней не прячется. Если бы кто-то в камере был, то выстрел бы пришелся, наверное, мне выше головы. Стоя на коленях, я куда ниже среднего роста. Но с первого же взгляда камера оказалась пуста, если не считать лежащего на узкой койке Питера.
Я задумалась на миг, закрыть ли дверь, рискуя, что кто-то меня запрет, или оставить открытой и тогда сквозь нее меня могли застрелить. Я не стала запираться – не потому, что этот вариант был лучше, но просто мне не хотелось находиться за закрытой дверью камеры. Частично клаустрофобия, а частично память о многих случаях, когда меня запирали разные твари, желающие меня сожрать. Иногда мне кажется, что это несколько усилило у меня клаустрофобию.
Кадры на черно-белом мониторе были страшные, а в натуре – еще страшнее. Питер весь свернулся в клубок, насколько это было возможно. Руки у него были связаны за спиной, связанные лодыжки подтянуты к голому заду. Штаны и трусы болтались у колен, и обнаженная белая плоть казалась невероятно беззащитной. Оставляя его так, она хотела его унизить. Повязка так и осталась на глазах яркой цветной полосой поверх черных волос. Рот измазан пересохшей кровью, нижняя губа распухла, синяки начинали наливаться на лице, как мерзкая помада от слишком усердных поцелуев.
Я и не пыталась сохранить спокойствие, главное, надо было поспешить. Он услышал мои шаги и стал что-то говорить сквозь кляп, и это было понятно.
– Не надо, пожалуйста, не надо, пожалуйста, – повторял он снова и снова, и голос у него сорвался – не сломался, как у подростка, а сорвался от страха.
– Питер, это я.
Он меня не слышал, повторяя все те же слова.
Я тронула его за плечо, и он завопил.
– Питер, это я, Анита.
Кажется, он на миг перестал дышать.
– Анита?
– Да, я пришла тебя вытащить.
Он заплакал, худые плечи затряслись. Я вытащила один из ножей Ножа и, осторожно подцепив веревку у запястий, дернула вверх. На острейшем лезвии шнур развалился без усилий. Я попыталась снять с него повязку, но она была слишком тугой.
– Сейчас я срежу тебе с глаз повязку, Питер. Не шевелись.
Он стал медленнее дышать, замер, когда я всунула клинок между тканью и его головой. Ткань резать оказалось труднее, чем веревку, потому что она была ближе к коже, и лезвие находилось не под тем углом. Но в конце концов клинок прорезал материю, и повязка упала. Мелькнула красная полоса там, где повязка вдавилась в кожу, и Питер бросился ко мне, обнял меня. Я тоже его обняла, держа нож в руке.
Он шепнул:
– Она сказала, что отрежет мне все, когда вернется.
Он больше не заплакал – сдержался. Я погладила его свободной рукой по спине. Хотела его успокоить, но надо было выбираться.
– Она тебя больше не тронет, Питер. Я обещаю. Но надо отсюда уходить.
Я освободилась от его отчаянно вцепившихся рук, чтобы видеть его лицо, и он видел мое. Его лицо я взяла в ладони, аккуратно отведя нож в сторону. Заглянула ему в глаза. Они были расширены от шока, но тут я сейчас мало что могла сделать.
– Питер, пора идти. Тед забирает Бекки, и мы уходим.
Может быть, дело было в имени сестры, но он моргнул и кивнул слегка.
– Я в порядке, – сказал он, и это была самая лучшая ложь за всю эту ночь.
Я сделала вид, что верю, и сказала:
– Тогда хорошо.
И потянулась к веревкам у его лодыжек. Мне пришлось встать для этого. Он был достаточно высок – или я достаточно низкого роста. Обняв меня, он повернулся лицом и только сейчас вдруг сообразил, что он голый. Питер схватился за штаны и трусы, пока я пыталась разрезать веревку у него на щиколотках.
Мне пришлось убрать нож.
– Если не будешь стоять тихо, я тебя могу порезать.
– Я хочу одеться, – сказал он.
Я встала в ногах кровати.
– Ладно, оденься.
– Только не смотрите.
– Я не смотрю.
– Нет, вы на меня смотрите.
– Да нет, я не на тебя смотрю…
Но я не могла ему этого объяснить и потому отвернулась к двери.
– Теперь можно смотреть.
Он уже оделся и застегнулся, и дикий ужас у него в глазах слегка ослаб. Я разрезала ему веревку, зачехлила нож и помогла Питеру встать. Он выдернулся из моих рук и чуть не упал, потому что слишком долго пролежал со связанными ногами и чувствительность еще не вернулась. Только с моей помощью он устоял.
– Сначала придется походить за ручку, а потом уже бегать, – сказала я.
Он позволил мне поддержать его по дороге к двери, но очень старался на меня не смотреть. Первой его реакцией была благодарность спасенного ребенка, который хочет за кого-нибудь ухватиться, но следующая реакция принадлежала человеку более старшему. Ему было неловко. Он стыдился того, что случилось, и того, наверное, что я его видела голым. Ему было четырнадцать – грань между детством и взрослостью. Пожалуй, он выходил из этой камеры, став намного старше.
Эдуард встретил нас на полпути с Бекки на руках. У нее был вид бледный и больной. На лице уже наливались синяки. Но мне захотелось заплакать, когда я глянула на ее ручку, которую я держала всего пару дней назад, когда мы с Эдуардом ее качали. Три пальчика уродливо торчали под неестественными углами. Они распухли, кожа потеряла цвет. На такой ранней стадии это значило, что переломы серьезные и легко не заживут.