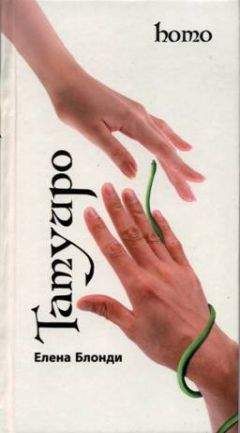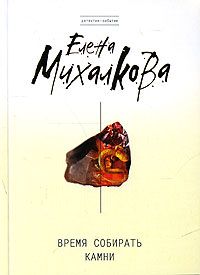Елена Блонди - Татуиро (Daemones)
— Не уходи! Мне страшно, не уходи, не бросай меня!
— Да куда я уйду, Наташ! Здесь я, — он сел на край постели, не пытаясь высвободить руку. Наташа потянула к себе и положила его руку на грудь, прижала сквозь простыню.
Через пару минут тишины рука ослабла, дыхание выровнялось. Витька смотрел на закрытые глаза, на полоску зубов. Заснула? Тихо потащил руку из ослабевших пальцев.
— Вит-тенька…
— Думал, спишь.
— В-волнуюсь.
— Что ты?
— Т-ты пойди сейчас во двор. Там Дашка. Курей кормит, утро уже. И…, и…, — Наташа открыла глаза и скривилась, досадуя на хмельную невнятность речи, — ты ей добрым утром, ну, пусть сюда не идет. Скажи, болею, ты болеешь. Спать. Она не придет.
— Не поймет, думаешь?
— Хы… Еще б, поймет, да. Здесь все все знн… Но не придет. Потому что сука она…
— Ладно тебе, — высвободил руку и пошел в коридорчик. Проходя мимо тусклого зеркала с отбитым краешком, высмотрел в разводах амальгамы свои глаза, криво усмехнулся — большие и вроде напуганные? Сумасшедшие. …В спаленке — важничают новые вещи, зеркало во всю стенку в пластиковой раме под дерево. А это, забытое в углу, жило тут всегда. Отражало многих — из той еще жизни, до туристов и пластика. Оно родня грязным галошам у порожка и витой стеклянной вазочке на подоконнике, в которой пылятся скелетики степного бессмертника. Отвел глаза от зеркала и вышел в сонное утро, прикрыв плотнее дверь.
Хозяйка, серой спиной в мужском ватнике к размазанному за тучами солнцу, громыхала ведрами у входа в курятник. В теплой темноте всполохнуто болтали куры, прикрикивал на них петух.
— Доброе утро, Дарья Вадимовна, — голос бодрый, фальшивый. Спохватился и притушил бодрость:
— Что-то приболел я, посплю. Завтрак не надо. Я сам выйду, потом.
Ведро громыхнуло сильнее. Медленно распрямилась спина. И повернувшись, хозяйка резанула Витьку щелочками ледяных глаз. Разлепила узкие губы:
— Ну, что ж. Болезнь известная. Спите, чего уж, мешать не буду. И, отвернувшись, закричала ноющим звуком в темноту:
— Цы-ы-ыпа, цыпа, цыпа, — будто резала жесткой ниткой нагретый птицами воздух.
Витька кашлянул, потоптался. Мысленно, по-пьяному еще, возмутился. — Что за мысли, блин, у всех одни! Теперь вот, делай не делай, а она все одно будет думать, что они с Наташей…
Шел, пятками кроссовок вколачивая злость в терпеливые старые камни. У низкой стены своего домика остановился и заглянул в окошко спальни, проверяя, заметно ли из двора — что там, внутри. Увидел сквозь кашу отражений и бликов скомканную на постели простыню, и, с мыслью, что ляжет в столовой, на диванчик, — согнутую голую спину у распахнутой дверцы старого серванта. Не сразу и понял, что это там — круглое, белое. … И передернуло от отвращения: притворялась совсем пьяной, а сама шарит по его вещам. Но вот шиш ей, его шмотье отдельно сложено, в другом шкафу.
Дверью хлопнул сильно, со злостью зашаркал по расстеленной у порожка тряпке, давая ей время вернуться в постель. И опешил, услышав из спальни радостное:
— Витенька, ура! Иди сюда, нашла!
Стоя в дверях, смотрел, как голая Наташа звякает хрусталем за гранеными дверцами серванта. А к боку прижата коричневая бутылка.
— Таак, щас я еще рюмку… Ты где хочешь сидеть, на кровати? Или пойдем за стол?
— Наташ, очумела? Не стану я пить! И ты!
— А вот фиг. Ты мне — не хозяин. Я сама спрятала, мой коньяк. Мне художник подарил. И загадала, что если вдруг, то я ее выпью. И выпью!
Лицо ее горело, блестели глаза и мокрые от наспех отпитого губы. Ногой захлопнула дверцу, сунула пузатые рюмки на столик у кровати и, не отпуская бутылки, плюхнулась на смятые простыни:
— Ну, давай! Смотри, мне уже лучше, ну? Целый день нам. Успеем, что хочется! Поспим потом, а?
Витька прошел к окну, задернул узорчатую занавеску.
…Сел в кресло у кровати. Наташа лежала вдоль взгляда, смотрели в потолок темные соски, чуть заметно белели на впалом животе ленточки растяжек. И длились ноги туда, к дальнему краю кровати.
— Красивая? — спросила и медленно прикрыла пушистый лобок белой ладонью. Как Ева на репродукциях старых картин.
Витька помедлил, не отводя глаз от долгого тела, зная, что Наташа не смотрит на него, а тоже гладит взглядом себя — до кончиков сильных пальцев ног. Уверенное женское ожидание повисло в воздухе, качаясь вместе с дыханием.
— Сама знаешь. Красивая… Вот только…
— Что? — подтягивая ноги, приподнялась с подушки и, обхватив колени, повернула к нему лицо с пятнами румянца.
— У пьющих женщин, Наташа, плохое кровообращение. Ноги их постепенно подсыхают, становятся тонкими. На них выступают вены сеткой и коленные суставы торчат шишками. У тебя такое сложение, толстеть будешь в грудь и плечи. А ягодицы провиснут. Загривок вырастет. И через пять лет — баба бабой. Все свои фотки сожжешь, чтоб не видеть, какая была.
Больно припадая боком на поручень кресла, еле увернулся от ее кулака. «А бутылку не выпустила из другой руки», подумал и выматерился про себя, вспоминая маленького Ваську.
— Сильно умный, да? Воспитатель, да? А ты поживи здесь, как я. Ну да! Ага! Ты ж не девка, на которую глаз положили. А потом роди, а? Который. Которого!.. Непонятно, кто из пятерых в один вечер сделал. Не в тринадцать, нет. Добренькие, год ждали, чтоб девку никто не замал. Походи в пятнадцать с животом в школу местную. Когда на лице и на пузе проклятом — крест: пользованая. И, блядь, выживи после этого! А тогда уж учи…
— Наташ…
— Наливай, давай, и заткнись. Я тут сегодня главная. Дай уж порадоваться до вечера.
Ткнула бутылку ему в руку. Смотрела жестко, глазами такими же, как у хозяйки в курятнике:
— Жалеешь? Так не говори дряни. Сидим, молодые, красивые, а …
Витька замахал руками, сдаваясь:
— Молчу, молчу. Права. Чего лезу. Держи рюмку.
— И разденься.
— Что?
— Будем пить голые. Типа, свобода у нас сегодня.
Витька пожал плечами. Встал, стаскивая штаны и носки, потянул через голову рубашку вместе со свитером. Наташа, хихикая, подцепила краешек его трусов. И замолчала.
— Вот, черт! Это ч-что?..
— Где? — Витька стоял, держа в опущенной руке перепутанную одежду.
— Где? — передразнила и, не отводя глаз, нащупала рюмку, скрипнула бутылочной пробкой. Булькая, полилась в старый хрусталь остро пахнущая жидкость, — где-где, везде, вон!
— А, это… Татуировка это.
Наташа зажмурившись, торопливо опрокинула в рот коньяк и сразу открыла проясневшие глаза, жадно разглядывая рисунок.
— Ты, прям, как эти в фильмах японских. Мужики. Забыла…
— Якудза.