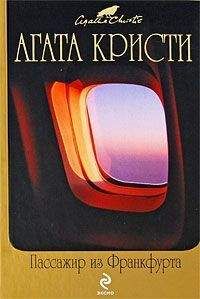Мэтью Шилл - Вайла и другие рассказы
Я стал понемногу догадываться о секрете нечеловеческой обостренности его слуха. К собственному ужасу, я и сам по прошествии некоторого времени начал улавливать какие-то отголоски громко произнесенных слов. Я предположил, что причиной может быть повышенная возбудимость слухового нерва; даже исключая водопад, рева океана и грохота непрекращающегося шторма вокруг нас было бы достаточно, чтобы вызвать подобное нарушение; в таком случае, воспаление его собственного слухового аппарата, вероятно, достигло совершенной стадии гиперпиретической лихорадки. Я определил эту болезнь как Paracusis Willisii. Гарфагер недовольно нахмурился, но я, не смущаясь, безжалостно продолжал рассказ об одном случае из своей практики. Речь шла о безнадежно глухой женщине, которая, тем не менее, была в состоянии расслышать звук падения булавки, находясь в мчащемся вагоне поезда *(Подобные случаи изучены или, по крайней мере, доступны пониманию любого медика. Поражение нервов у глухих может быть причиной усилившейся чувствительности. При значительных повреждениях, предела такого усиления чувствительности не существует (Прим. авт.)) . На это он только ответил: «Среди всех невежд, по моему давно сложившемуся мнению, ученые являются людьми самыми невежественными».
Гарфагер приписывал ужасное состояние своего слуха темноте, но мне это объяснение казалось просто надуманным. По его собственному признанию, сам он, его тетка и Аит нередко испытывали приступы сильнейшего головокружения. Я был поражен, так как сам незадолго до этого дважды просыпался от ощущения качки и тошноты, будучи уверен, что комната вместе со мной неудержимо вращается справа налево. Когда это ощущение прошло, я рассудил — пожалуй, преждевременно (хотя и в согласии с распространенными медицинскими теориями), что оно вызвано сотрясением нервных окончаний в улитке внутреннего уха. Что касается Гарфагера, то его убежденность в том, что дом и весь окружающий мир кружатся, приняла поистине пугающие формы, и ее последствия порой напоминали признаки невменяемости или демонической одержимости. По его словам, чувство головокружения никогда полностью не покидало его; временами ему казалось, что он с протянутыми вперед руками взирает в жуткую бездну, над которой уже занесена нога. Как-то раз во время наших блужданий он был словно повержен оземь незримой силой; так он пролежал целый час, весь покрытый холодным потом, и застланными безумием глазами удивленно следил за круговращением дома. Ко всему прочему, его постоянно терзало восприятие столь необычайных по своей природе звуков, что я не мог найти для них иного объяснения, помимо сильнейшего tinnitus. Он рассказывал, что в неразборчивый шум иногда вторгались пронзительные трели некоей орфической птицы, чьи страстные мадригалы наполняли его пониманием, что птица та явилась из далекой страны, имела оперение снежной белизны и была увенчана сиреневым хохолком. Порой он слышал соединенный гул человеческих голосов; их отдаленное отчетливое многоголосие рассыпалось в финале хаотическими музыкальными звуками. Бывало, его оглушал удар бесконечного и грозного столкновения, точно в его ушах раскалывалась и рушилась вселенная из стекла. Он также говорил, что мог скорее видеть, нежели слышать, разноцветные спутанные спирали музыки сфер, где-то глубоко, в глубине бездны, в черном мрачном провале ревущего водоворота. Эти его впечатления, которые я упорно считал сугубо внутренними явлениями, порой доставляли ему удовольствие, и он надолго застывал с приподнятыми руками, прислушиваясь к обольстительным звукам; другие, однако, воспаляли его, доводя до грани яростного безумия. Я предположил, что именно в этом заключалась причина тех раздраженных возгласов «Внемлите!», что он издавал примерно каждый час. Но я заблуждался — и вскоре с испугом и ужасом узнал истину.
Однажды мы проходили мимо железной двери на нижнем этаже; он замер и несколько минут прислушивался к чему-то с выражением чрезвычайно проницательным и хитрым. Наконец у него вырвалось: «Внемлите!»; после он повернулся ко мне и написал на листке: «Вы не слышите?» Я слышал лишь монотонный рев. Он прокричал прямо мне в ухо — слова его до сих пор слышатся мне, как далекое эхо сновидений: «Вы увидите».
Он поднял подсвечник; достал из кармана своего одеяния ключ; отворил дверь.
Мы вошли в круглый зал с очень высоким, в сравнении с размерами помещения, куполом; зал казался пустым, за исключением прислоненной к стене стремянки. Пол был устлан мраморными плитами, а в центре темнел бассейн, напоминающий имплювий римского атриума, но круглой формы; бассейн явно был глубок и полон маслянистой миазматической воды. Меня поразило одно обстоятельство: когда свет упал на угольно-черную поверхность воды, я заметил, что она была совсем недавно чем-то потревожена; это никак не могло объясняться вибрацией дома — от середины бассейна к мраморным бортикам угрюмо расходились чернильные волны слизи. Я недоуменно взглянул на Гарфагера. Он знаком велел мне ждать и затем около часа прогуливался вокруг бассейна, привычно заложив руки за спину. По истечении этого времени он остановился; стоя вместе у края, мы пристально всматривались в воду. Внезапно он с силой сжал мою руку и я с неподдельным страхом увидел, как крошечный шар, без сомнения свинцовый, но окрашенный каким-то кроваво-красным химическим пигментом, упал из-под купола и исчез в центре черных глубин. При соприкосновении с водой он зашипел, исторгнув легкое облачко пара.
— Во имя всего греховного! — вскричал я. — Что это вы мне показали?
Он снова сделал быстрый и уверенный жест, призывая меня подождать; передвинул стремянку ближе к бассейну; вручил мне подсвечник. Взобравшись на лестницу, я поднял повыше свечу и разглядел нечто, свисавшее из туманного центра купола. То была сфера из потемневшей от древности меди; опущенное вниз горлышко придавало ей сходство с сосудом. На конце этого горлышка, как мне показалось, виднелось крошечное отверстие. По выпуклому медному боку сферы вились полустертые красные письмена:
«Дом Гарфагеров: 1389 – 188...»
Что-то сверхъестественное — не знаю что — в сочетании покрытой патиной сферы, мрачного бассейна и затеи с ежечасно падающими и шипящими шарами заставило меня поскорее спуститься со стремянки.
— Но что это значит?
— Вы видели надпись?
— Да. Что же все-таки она означает?
Он написал: «Сопоставив тексты Хьюго Гаскойна и Трунстера, я вычислил, что особняк был построен около 1389 года».
— А вторая дата?
— После последней восьмерки, — ответил он, — следует еще одна цифра, почти, но не полностью изъеденная патиной.