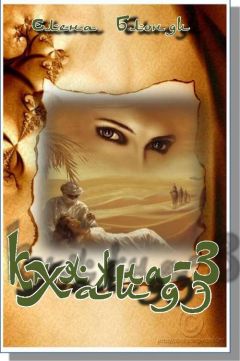Елена Блонди - Хаидэ
На одном из таких камней было начертано «не позволяй нетерпению совершить первый шаг, всегда сделай его сам. И пусть будет он к знанию».
Пленник перестал биться внутри окаменевшего тела. Глядя перед собой на широкую панораму саванны, открыл внутренние глаза и ждал, когда его взгляд обратится в себя. Ожидание, полное свирепого нетерпения. Все так же билось оно в его голове, бурей в закрытом сосуде, но как только пришло ожидание, оттуда, из камня в стене, буря была обречена. Время текло и казалось Нубе вечностью, но он просто сидел и ждал, отрешившись. И когда мир состарился и умер, когда его Хаидэ, заплакала, упрекая за то, что не успел, а старая нянька Фити воздела над ним руку, посылая проклятье на большую бритую голову, вымазанную красной глиной, когда все-все уже было поздно делать, и буря стала не нужна, она стихла. И по тихой воде отчаяния проплыли, лениво покачиваясь, неясные воспоминания о ночных ответах годои. Неясные…
И тогда, мысленно сжав кулаки, Нуба собрал все силы и закричал, раскалывая голову криком, которому некуда была деваться.
«Княжна! Помоги мне, княжна! Теперь мне нужна твоя новая сила!»
— Не кричи так, — Хаидэ сидела на корточках, так же, как Маур недавно, озабоченно заглядывала в черное мокрое лицо, — я слышу тебя. Сплю и слышу.
«Я помню, что спрашивал старик. А что отвечал годоя?»
Мальчик петлял среди черных скал, длинных и корявых, как пальцы великанов, торчащие из-под земли. Идя к рощице, служившей домом папе Карумы, думал, хмуря брови и для усиления думанья иногда бил себя по лбу основанием ладони. Он, конечно, обиделся на тетку, ведь она ему родная кровь, а папа Карума хоть и хороший, но чужой старик. Но Маур почти мужчина и это он переживет. А вот годоя страдал, он видел это в его глазах, устремленных туда, где трава прорастает в небо. Сейчас нужно придумать, как ему помочь.
И чем дальше шел мальчик, погруженный в планы спасения пленника, тем яснее становились воспоминания Нубы о ночном разговоре.
Ничего не надо было ему, ни биться, ни кричать, только сидеть, глядя в глаза Хаидэ, сидящей напротив и не видеть ничего, кроме этих глаз. И думать не о том, как вырваться, отбросить все и побежать через полмира, а о вещах по-настоящему важных.
«Будто мы не расставались», подумал Нуба и сглотнул, почувствовав, как гулко прокатилась по горлу слюна.
— А мы и не расставались, — ответила девочка. И губы пленника пошевелились, расходясь в улыбке. Она говорит с ним, по-настоящему, хотя выглядит так, как выглядела еще в степи, еще до того, как стала нареченной невестой князя. Но неважно сейчас, что тут правда, а что лишь в голове — ведь его тело возвращается к нему!
И, расслабляя и напрягая мышцы, одну за другой, сплетая пальцы и поворачивая голову, глядя на траву и черные стволы далеких деревьев, он продолжил думать о самом важном сейчас.
Маур. Внезапный помощник и собеседник, тощенький четырнадцатилетний мальчик, с узкими плечами, замотанными линялым зеленым плащом. Этот рваный плащ отдала ему тетка, а потом продала мальчика говорильщику папе Каруме. А тот, сраженный жадностью, просил годою о милости птицы Гоиро — продать мальчика дальше и много дороже.
…На два года раньше отправив к бэйунам, чтоб, обрезав его плоть костяным ножом, они отвезли нового, дрожащего от страха мужчину на дикий неприветливый остров, где из него вырастят стража. Такого же, какого когда-то вырастили из самого Нубы, на другом краю огромной страны, населенной черными людьми. Там, в маленькой деревне колдунов, отрезанной от дома грядой невысоких гор, Нуба был таким же мальчишкой. И несколько длинных лет, наполненных неумолчным стуком барабанов, он, то исчезая внутри себя, то возвращаясь, до сих пор не может сказать, что именно было там из жизни земной, которую можно пощупать руками, а что рождалось лишь у него в голове, в навеянных зельем снах.
«Есть разница между вами, черный, тупоголовый ты раб» — крошечная мысль стала расти и заняла всю голову, а прочие мысли притихли, давая ей говорить. «Ты спал и жил, видел сны, жрецы думали их, после решали, для чего ты, и почему приснилось то или другое. Но никто не принуждал тебя к темноте, как никого там не принуждали и к свету. Из вас растили воинов мира, и отпускали туда, куда позовет вас предназначение — каждого в свою сторону. А этот — уже продан, как вещь. И не человеку, а темноте. Хочет ли Маур себе такой судьбы?»
Нуба прижался спиной к трещинам коры, чтоб пришла небольшая боль, и сказал Хаидэ, вслух, шевеля послушными губами:
— Я тут, чтоб помочь ему, княжна. Прости. Я вернусь, вот только…
И зашарил глазами, теряя из виду размывающееся в горячем мареве родное лицо.
Глава 5
Маур не пришел к ночи, как обещал годое. Да и выведать у Карумы, что случилось с пленником, ему не удалось. Хороший старик изменился. Не стал плохим, так же улыбался мальчику, взмахивая худой рукой в направлении стада, и суя ему калебас с напитком из смеси воды, меда и ягодного сока. Но, послушно отправляясь на дальние поляны, Маур подумал, а может пусть бы стал плохим, чтоб это было видно сразу. А так — только чуть-чуть холоднее глаза и отрывистее речь. Сидя в прозрачной тени акациевого зонтика, Маур вздохнул, нашарил рядом жухлый ворсистый лист, оторвал и стал полировать древко копья, подставляя солнцу, чтоб блестело. По равнине, с там и сям натыканными такие же зонтиками деревьев и вытянутыми пальцами черных скал, медленно передвигались коровы; нагибали шеи, тычась мордами в клочки травы, и деревянные колокольцы глухо позвякивали. Это был скот самого папы Карумы, а не та большая часть стада, которую ему пригоняли за плату другие жители деревни. И смотреть надо было хорошо — вдруг какая телушка скроется за скалой, пойдет дальше, ищи ее потом. Или придет лев, осматривая свои владения. Задерет теленка, который от малого ума все норовит отбежать подальше.
— Гок-гок! Нока-нока! — строго крикнул Маур, не прекращая тереть древко. Теленок, взбрыкнув, отбежал от расщелины в скале. Зазвенели ботала, коровы под крик лениво переместились на новые места. А мальчик стал думать о будущем.
Два года служить ему пастухом у старого Карумы. Тетка не нагружала Маура работой, ей нравилось многое делать самой, — и к гончару и на площадь. Говорили в деревне, смеясь, если Пококо вернется к жене не вовремя, как-нибудь ночью, то придется ему свою старшую убить и отнести в буш, подарить птицам-падальщикам. Но Пококо ценил свою Коси, первую, за которую заплатил выкуп, когда старейшины позволили ему жениться. И потому никогда с дальних трав внезапно не возвращался. Маур знал — зря, никто к ним в гости по ночам не заглядывал. Это все женщины, завидуя тому, что Коси стала жить отдельно, своей женской хижиной, болтали почем зря. Но пойти туда, где народ и танцы — мама Коси любила. Тогда Маур оставался один на хозяйстве, ему это нравилось. Натаскал воды, починил плетень и можно дальше делать щит, обтягивая деревяшку подаренным лоскутом прочной кожи зебры. Теперь вот — будет все время работать, от утра до темноты с коровами. И это тоже не страшно было бы. Но как же тогда говорить с годоей? Пока стадо придет в загон, пока женщины выдоят молоко и уйдут, перекликаясь, во временный лагерь, где разольют его по шкурам — сушить на солнце. А Маур все должен быть рядом, помогать. А там уже закатывается солнце, руки-ноги гудят, а глаза закрываются сами. Только опустишь голову на обтесанную колоду, как снова утро, уже покрикивает папа Карума и толкается в уши глухой звон колокольчиков. А там опять длинный день, полный привычного зноя и пятнистых коров. И снова совсем один, до ночи. Когда была тут сестра — веселая Маура, было хорошо, она брата любила, вечно придумывала игры. И танцевала, как никто не умел танцевать ни в этой деревне. Ни в других. Но это было давно, и тоска по сестре стала такой же глухой, как позвякивание коровьих колокольчиков.