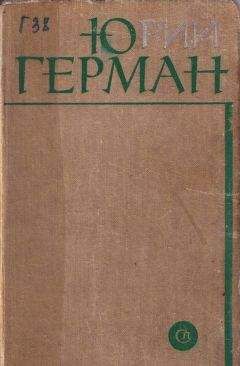Из бездны - Шендеров Герман
После ужина мне показали гостевую комнату с magnifique балконом, выходящим, однако, на весьма шумную улицу; роскошной кроватью с балдахином и невероятно изящным черепаховым кабинетом с множеством ящичков и отделений. Такая обстановка вдохновила меня все же поработать немного с записями перед отходом ко сну.
Изначальным моим замыслом было жизнеописание невольничьего быта в самых его неприглядных проявлениях – голод, жестокость, невыносимые условия и непосильный физический труд. Но, поразмыслив, я пришел к выводу, что очерствевшие сердца помещика и дворянина не содрогнутся, но лишь позлорадствуют, поглумятся: мол, если мужика глупого розгою не сечь да барским словом не направлять, так распустится и сгинет, пустится во все тяжкие, будет пить горькую да разгильдяйничать, душе своей и плоти на погибель. Как тут достучаться до того, кто сам себя назначил судиею над душами людскими – с фальшивым пряником в одной руке, натруженным кнутом – в другой? Лишь ужас Высшего суда, лишь зеркало небесное способно отразить и взвесить тяжесть греха властей предержащих. Как «усмиряется» мужик кнутом – так усмирится и душевладелец, заслышав свист над собственной спиною. И этот свист я запишу так, как услышу, со всякого края Земли, где гнутся изувеченные спины, где стонет люд и правит глад. Невольничья молитва громче, пуще и отчаяннее всех тех, что мы бормочем в углах красных, псалтырь читая по закладам. Не зная верных слов, не зная имени Господня, их обращенья достигают адресата, минуя бюрократию Небесных Канцелярий. К сему поведаю я первый из примеров, записанный со слов одной крестьянки из Брянской губернии (в моей редактуре, дабы не оскорблять взор читателя просторечиями).
«Я сама при дворе не служила никогда. Другие-то шастали, а мне самой в поле сподручней да на мялке. Барин-то у нас хороший был, * * * – его фамилия, а вот наследничек-то с гнильцой уродился. Я от повитухи нашей слыхала, что пуповиной его обмотало, задыхался он – долго не дышал, уж отпевать думали его, так очнулся всем на беду. Матушка его через те роды отмучилась, померла – не помогли ни мыльца от преподобного, ни хваленая мазь моренковая. Барин у нас деловой был, все ездил, а барчук с мамками да няньками, но сам себе на уме. Бывало, найдет какого кутенка или куренка – и давай измываться: то лапку ему отхватит ножичком, то лучиною прижгет. А дворовые только ходили да крестились – что ж будет, когда барчук подрастет, да не лучше ли его в постели удавить? Не решились. А барчук уж новые игрушки нашел – на конюха верхом залезет и ну его кнутом стегать, чтоб, значит, катал – по двору и дальше. Иль хвать клюку хромого старосты – и прочь бегом: старик бранится, а тот вокруг скачет и потешается. Страсть началась, когда вошел барчук тот в возраст, когда на девок принято заглядываться. Сенным прохода не давал – то ущипнет, укусит, а то и вовсе под рубаху лезет. Барину-то все не до того, а барчук знай себе наглеет; а мамки-няньки-гувернантки ему давно уж не указ. Служила при дворе у нас такая Акулина – как есть ну андел, лицом бела да черноброва, с толстенною косой. Она на выданье была, у ней и жених имелся – Антипка, кузнецовый сын. Барина ждали – просить благословенья. Но судьба иначе вывернула. Барчук ее в опочивальне своей караулил – велел воды принести, умываться, мол, хочет. А как она вошла… Того я знать уже не смею, но вышла Акулина ни жива и не мертва, а токмо рубаха разодрана, да сама в крови вся и в синяках. До хаты так и не вернулась, решилась горемычная на самогубство – в сарае за конюшней накинула петлю на балку. Веревку, значит, лошади на шею, а петлю – себе. Стегнула хворостиною, да лошадь как рванет – такой тяжеловоз был, хоть три сохи запрягай, – да головушку ее от шейки лебединой и сорвало напрочь. Когда про то Антипка прознал, хотел он барчука кузнечьим молотом учить, но не успел – сдержали мужики. Барчук его велел пороть арапником, покуда кожа со спины не слезет. Три дня и ночи умирал Антип, кричал, ругался, видел духов. Говорил, что видит адские котлы, где варится его невеста, на вечные мученья осужденная: голова в одном котле, а тулово в другом. Слезает кожа, лопаются очи, и мозжечок в костях вываривается. А там и сам Антипка помер. Его отпели, омыли, как положено. Похоронили у оградки, с невестою бок о бок – с одной стороны он, а она – с другой. И воду с омовенья старая ключница в ведерко собрала да зашептала. К вечеру барчук сызнова задумывал умываться, так ключница ту воду мертвую ему велела подать. Барчук умылся, как обычно, а утром спозаранку на охоту собрался. Велел взнуздать коня поретивее и отобрал на псарне гончих – голодных, что твой волк, чтоб не филонили, значит. Того, что было дальше, сама я не видала – кажу со слов дворового мальчишки. На лесной тропе барчук завидел зайца. В азарте бросился за ним – по псиному следу. Коня до пены захлестал, а заяц в чащу уводит. И то ли барчук не увидел, увлеченный охотой, то ли засеченный конь не услыхал команды, но ровно шеей угнездился насильщик прям меж двух ветвей. Плотно засел ногами в стременах, да так, что тулово барчука дальше за зайцем поскакало. А башка висеть осталась, оскаленная, жуткая. Когда догнали лошадь – та лежала на боку со сломанной ногою, а рядом гончие тянули барчуковы сладкие кишки».
Заведомо прошу меня извинить за чрезмерно макабрические сцены, коие вы будете и впредь обнаруживать в моих записях там и тут, но случай сей отнюдь не уникален.
Как говорится, кто бывал в имении Измайлова, уж в подворотнях носа не зажмет. И если голь на выдумки хитра, чего ж сказать о властью облеченных: гаремы из крестьянок, что честь бы сделали султану; переодетые в наяд и нимф, уж с малолетства «барщину» свою им отрабатывать привычно. Не удивится душевладелец ни спине исхлестанной, ни властью развращенному барчуку. А важно в той истории, что le châtiment догнал-таки злодея, и здесь не место совпаденью: причину – следствие не проследить нельзя. Нельзя сказать, какой Господь ответил тем молитвам, каковые повитуха нашептала над водою с потом мертвеца, но, видно, столько сил в мольбе невольника, что их оставить без ответа невозможно. Пускай не высшее возмездие тому виною, а лишь дурной характер барчука: судьба ему подобных незавидна и печальна. Но сей урок – первый из многих – должен стать предупрежденьем тем, владевшим безрассудно: Le châtiment настигнет всех.
21 июля 1833
Спешу запечатлеть замечательный случай, что произошел со мной намедни. Сопровождая вдову Хиггс в течение ее обычного променада, мы по обыкновению обсуждали ужасы рабского Дикси. «Представляете, – с каким-то нездоровым придыханием говорила она, – после акта Джефферсона – запрета на ввоз рабов из Африки – их количество ничуть не уменьшилось. Представьте себе, плантаторы с Юга придумали такую штуку, как племенная ферма. Я слыхала о такой в Ричмонде и на востоке Мэриленда. Только подумать: конфедераты отбирают самых здоровых особей, надевают им на головы мешки и сводят их с рабынями – плевать, хоть мать, или сестра, или дочь – натурально, как породистых жеребцов. Только вообразите!» При этих словах декольте вдовы так возбужденно колыхалось, что мне стало неприятно. А она продолжала разглагольствовать: «Когда бы судьба соизволила доверить мне управление этой фермой – я бы уничтожила ее в ту же минуту, Господь свидетель словам моим! Но что может сделать одинокая женщина в мире жестоких мужчин? Право слово, я даже размышляла, не примкнуть ли мне всерьез к сообществу аболиционистов, но эти квакеры со своей чванливой дурищей Мотт окончательно помешались на трезвости!» Вдова при этом хохотнула и пихнула игриво меня локтем. В смущении я принялся смотреть по сторонам и заприметил того самого enfant noir, что был бит ирландскими мальчишками. Малыш ковырялся в мусорной куче и выглядел крайне истощенным – черная с проплешинами головка на тонкой шее, вздувшийся живот и конечности-спички. Он походил на тех как будто обгоревших человечков, что его африканские предки рисовали на кувшинах. Желая отвлечь вдову от ее неуместного флирта, я указал на арапчонка: «Не начиная с малого, нет и шанса приблизиться к великому. Сделайте маленькое добро – и тем внесете свою лепту. Вспомните, как у Исайи: „Раздели с голодным хлеб твой и скитающихся бедных введи в дом“». Я подошел к арапчонку и обратился к нему: «Малыш, как тебя зовут? Ты голодный?» Арапчонок смотрел на меня мутными глазами с гнойничками в уголках и, похоже, не понимал, что я говорю. Тогда я, предварительно обмотав ладонь платком от княгини Р., взял арапчонка за руку и изумился: до чего же она хрупкая и крошечная, точно птичья. Не желая распоряжаться гостеприимством вдовы, я решил покормить малыша в знаменитом Delmonico’s, что на Бивер-стрит; кинул пенни ирландскому заморышу, чтобы тот кликнул нам извозчика. Войти в приличный ресторан с арапчонком оказалось неожиданно непростой задачей, но тут вмешалась моя дорогая вдова: одержимая жаждой добрых дел, она так рявкнула на швейцара, что того натурально «сдуло» с поста. Официант, тоже negro, оказался уже учтивее, разве что выбрал самый дальний столик на террасе; вероятно, чтобы не оскорблять взор достопочтенных господ видом заморыша. Честно говоря, я совершенно не знал, чем кормить арапчонка, поэтому решил раскошелиться и взял всего понемногу: яйца бенедикт в соусе hollandaise с ломтиком ветчины и посыпкой из трюфелей, цыплят a la Keene в сливочном соусе, ананас, устриц, различных пирожных, три куска торта, бутылку белого вина, лимонаду и, конечно же, знаменитый стейк Black & red средней прожарки. Арапчонок, явно в жизни не видевший такого изобилия яств, сидел растерянный и хлопал глазенками в странной смеси страха и надежды: наверняка думал, что джентльмен и леди решили позабавиться за его счет и едва он откроет рот – тут же все отберут, а следом вытолкнут его взашей. А снаружи еще и наподдадут завистливые ирландские голодранцы. Эти мысли вызвали во мне такой человеколюбивый порыв вкупе с умилением, что я, недолго думая, посадил арапчонка себе на колени и принялся нарезать стейк на мелкие кусочки. Поначалу малыш недоверчиво и осторожно пережевывал мясо, но вскоре, войдя во вкус, уже сам вовсю наворачивал курятину, руками прямо с тарелки, едва успевая запивать. Тут, к своему стыду признаюсь, я подлил немного хереса в его лимонад – для аппетиту. Попробовал предложить арапчонку устриц, но тот лишь недоверчиво покосился на перламутровое ложе с моллюском и продолжил обгладывать куриную кость – настоящий дичок из племени Мумбо-Юмбо. Ничего удивительного в том, что рабовладельцы видели в рабах едва ли не животных. Сложно не заметить разницу между чванливыми джентльменами в легких фланелевых костюмах, степенно разделывающими дымящиеся стейки, и этим почти первобытным зверским аппетитом. Вскоре арапчонок перешел на пирожные, но, слопав буквально пару штук, тяжело откинулся на стуле и окинул разоренный, как после налета индейцев, стол осоловелым взглядом. Судя выражению лица, он был на седьмом небе от блаженства; он даже затянул какую-то заунывную песню без слов – очень похожую на те, которыми няньки баюкают младенцев в колыбельках, но очень скоро затих. И без того круглые глаза вдруг совсем выпучились, а цветом арапчонок изменился от темного шоколада к очень слабому кофе, сильно разбавленному молоком; на лбу его выступили капельки пота. «Воистину, алчность – смертный грех!» – усмехнулась миссис Хиггс. Я же был взволнован – ребра арапчонка ходили ходуном, воздух выходил с хрипами. На ощупь он стал почти как мороженое, которым был украшен съеденный им кусок ванильного торта. Я растерялся, но тут ситуация разрешилась сама собой – пускай и не лучшим образом: арапчонок застонал и вывалил прямо на белую скатерть половину съеденного. От такого конфуза я не знал куда прятать глаза. Вдова Хиггс малодушно ретировалась, оставив меня разбираться с происшествием. Тут же подскочил метрдотель с двумя официантами, и те принялись наводить порядок, чтобы не оскорблять ни обоняние, ни взоры других гостей, уже поглядывавших в нашу сторону с презрением; какой-то тучный джентльмен сплюнул в мою сторону откушенный кончик сигары. Смущенный, я не посмел ему ответить: в Петербурге я бы, пожалуй, вызвал нахала на дуэль, а здесь, в чужой стране, был вынужден стерпеть оскорбление. Отсчитал ассигнации и выскочил с арапчонком на руках – тот не был способен передвигаться – на крыльцо ресторана.